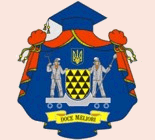Доклад: Анализ становления русской и древнерусской культур
Доклад: Анализ становления русской и древнерусской культур
ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ
МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ
ДРЕВНЕРУССКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУР
(IX – XVII вв.)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ...........................
ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЯ АРХЕТИПИЧЕСКИ-ТЕМАТИЧЕСКОГО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА........
§ 1. Философское обоснование понятия культуры как объективной ментальной
реальности........
§ 2. Основы тематического культурологического анализа.....................
§ 3. Неоднородность ментального пространства культуры и своеобразие типов
его «жизнедеятельности» .....
ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ Ментального пространства КУЛЬТУРЫ КИЕВСКОЙ РУСИ
(IX – первая треть XIII вв.)
§ 1. Проблема экспликации понятия «культура» в
историко-культурологическом анализе.....
§ 2. Фундаментальная тематическая структура языческой культуры восточных
славян до прихода варягов на Русь ..............
§ 3. Образование княжеско-дружинного ментального пространства (IX – X
вв.)..............
§ 4. Христианская ментальная революция в культуре Киевской Руси в XI в.
...............
§ 5. Ценностно-тематическое пространство культуры Киевской Руси в XII –
первой трети XIII вв. и «Слово о полку Игореве»...................
ГЛАВА III. ГЕНЕЗИС МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В XIV – XVII вв.
§ 1. Разрушение ценностно-мыслительного пространства культуры Киевской
Руси во второй половине XIII в.
§ 2. Формирование фундаментальной тематической структуры русской
культуры в период возвышения Московского княжества (XIV – первая половина XV
вв.).................
§ 3. Особенности тематического пространства новгородо-псковского
культурного региона и его разрушение в ходе московского завоевания............
§ 4. Цесаризация и авторитаризация ментального пространства русской
культуры во второй половине XV – XVII вв..................
ГЛАВА IV. Оценка «внешнего» (западноевропейского) наблюдателя развития
русской культуры в XVI – XVII вв.
§ 1. Генезис фундаментальной тематической структуры западноевропейской
культуры с VI в. до н. э. по XVII век................
§ 2. Русская культура XVI – XVII вв. глазами
западноевропейца...................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 1.МЕТОДОЛОГИЯ АРХЕТИПИЧЕСКИ-ТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
§1. Философское обоснование понятия культуры как объективной ментальной
реальности
Исходной посылкой настоящего исследования является представление о культуре как
объективной, целостной ментальной реальности. По нашему мнению, подобного рода
понимание культуры может служить достаточно эффективным средством конкретного
историко-культурологического анализа.
Культура рассматривается нами как развертывающаяся во времени ментальная
пространственная конфигурация, которая образуется множеством элементарных
теоретических объектов – тем. Методологическое обоснование целесообразности и
эффективности подобного рода подхода при осуществлении конкретного
историко-культурологического исследования будет проведено ниже. Однако,
поскольку в современной культурологии преобладает субъективистски
ориентированное понимание культуры, необходимо провести философское обоснование
понятия культуры как объективного ментального образования.
Прежде всего, следует отметить, что в рамках объективно идеалистической традиции
в западной философии по существу разрабатывалось понимание культуры как системы
объективного духа.
”Мир идей” Платона представляет собой иерархически упорядоченное метафизически
ментальное пространство, на вершине которого находится идея Блага. Пространство
объективного духа Г.Гегеля структурируется системой категорий диалектической
логики. В ХХ веке это течение философской мысли получило дальнейшее развитие в
учении об общественном бытии С.Л.Франка, К.Юнга об архетипах коллективного
бессознательного, К.Поппера о «третьем мире» и др. Анализ эволюции основных
путей осмысления объективного духа как метафизики культуры в истории философии
требует специального исследования. Нам достаточно ограничиться выявлением
своеобразия природы культуры как объективного ментального пространства.
Культура как антропогенный мир
Какова природа культуры как объективного ценностно-мыслительного
пространства? Ментальное пространство – это мир, созданный многими
поколениями людей. Размышляя о «третьем мире» как системе объективного
знания, К.Поппер пишет: «.третий мир есть естественный продукт человеческого
общества, подобно тому как паутина является продуктом поведения паука» [121;
446]. Социо-культурно непризнанное произведение (научный труд, литературное
или философское произведение и т.п.) существует, употребляя терминологию
К.Поппера, в двух мирах – физическом и индивидуально-психическом. Когда же
произведение транслируется, включается в систему культуры, оно приобретает
интерсубъективный характер, обрастает множеством смыслов независимо от воли
её автора и, таким образом, становится не психической, а сверхиндивидуальной,
принципиально многозначной духовной реальностью.
В процессе коллективного творчества людей возникает «третий мир» – мир
культуры. К.Поппер под «третьим миром» понимает объективное существование
системы научного знания (научных проблем, теорий и рассуждений, аргументов),
«знание без познающего субъекта» [121; 443], которое является составной
частью мира культуры в целом и обладает той же природой. Духовная культура
как предельно широкое понятие определяет все виды культуротворческой
деятельности и их результаты.
По мнению С.Л.Франка, духовная жизнь как интегральный момент коллективной
человеческой жизни «.. творится самими людьми, вырастает из их совместной,
коллективной жизни и укоренена в ней, а потому и живет во времени, рождается,
длится и исчезает, подобно всякой иной жизни на Земле. Эта связь с человеческой
жизнью и зависимость от неё нисколько не отменяет надындивидуальной и
сверхпсихической объективности общественного бытия, подобно тому как, например,
человеческое происхождение творений искусства – статуи, картины, поэмы – не
уничтожает их объективного бытия вне человеческой психической жизни и не
противоречит ему; но в отличие от творений искусства явления общественной жизни
не только в своём рождении, но и во всём своём дальнейшем бытии приурочены к
человеческому сознанию, их порождающему, существуют в связи с ним, в отношении
к нему и исчезают, растворяются в ничто, как дым, если эта внутренняя нить
окончательно обрывается» [168; 72]. С.Л.Франк справедливо отмечает, что природу
общественного бытия «нельзя адекватно выразить ни в категориях чисто
«субъективного» порядка, ни в категориях порядка «объективного». Общественное
бытие по своей природе выходит не только за пределы антитезы «материально
-психическое», но и за пределы антитезы «субъективное-объективное». Оно
сразу и «субъективно», и «объективно», как бы парадоксально это ни было с точки
зрения наших обычных философских понятий»[168; 72].
Автономный характер мира культуры
Культура как объективное ментальное образование оказывает воздействие на людей,
в значительной мере определяет их ценностно-мыслительные ориентации. “.Третий
мир,– пишет К.Поппер,– значительной степени автономен, хотя мы
постоянно воздействуем на него и подвергаемся воздействию с его стороны. Он
является автономным, несмотря на то, что он есть продукт нашей деятельности и
обладает сильным обратным воздействием на нас, то есть воздействием на нас как
жителей второго и даже первого миров”[121; 446]. Согласно К.Юнгу, практика
психоанализа требует допустить воздействие на психику индивида надличностных
факторов, которые он называ
ет архетипами коллективного бессознательного.
Автономный характер мира культуры проявляется также в способности к
регенерации, самовосстановлению. К.Поппер доказывает независимость “третьего
мира” (объективного научного знания) посредством мысленного эксперимента,
согласно которому при разрушении трех миров (машин и орудий труда,
субъективных знаний и систем библиотек) наука становится невозможной. Если же
будут разрушены два мира (машины и орудия труда и субъективные знания), но
сохранится “третий мир” (библиотеки), то наука (культура) может начать
развиваться снова. Показательным примером может служить расшифровка “мёртвых”
языков древних цивилизаций, которая приводит к регенерации ментальных миров.
Автономный характер мира культуры выражается также в наличии относительно
самостоятельной логики его ценностно-мыслительного развёртывания.
Трансцендентность культуры как объективного ментального целого
Осмысление культуры как системы объективного духа приводит к выводу о её
трансцендентном характере. Это означает, что культура как духовное целое
никогда никому не открывается полностью не столько по причине невозможности
охватить бесконечное множество явлений культуры и их связей, сколько в силу
её трансцендентности, несоизмеримости природы её духовности с индивидуальным
человеческим бытием.
Утверждение объективного существования сферы духовной культуры как
трансцендентного мира поднимает также ряд сложных метафизических проблем,
связанных с осмыслением его соотношения с трансцендентным божественным миром.
Очевидно, что это различные уровни трансцендентного мира. Универсальность
божественного мира абсолютна, в то время как мир культуры ограничен сферой
нашей планеты. Божественный мир вечен, мир культуры сотворён. Очевидна
подчинённость, зависимость последнего от самодовлеющего бытия божественного
мира. В этом смысле всякая религия той или иной культуры в прошлом и
настоящем выступает способом, большим или меньшим каналом выхода, прорыва
через мир культуры в божественный мир. Изменяется ценностно-мыслительное
пространство культуры – изменяется религия как опора в абсолютном
божественном бытии.
Проблема объективного и субъективного в
культорологическом
культурологическом знании
Здесь коснёмся лишь проблемы субъективности и объективности исторического и
культурологического знания. Представители субъективистского истолкования
исторического знания (Брэдли, Оукшотт и др.) полагают, что предметом истории
является не мир объективных событий, а мир идей. Тогда в историческом прошлом
как мире идей невозможно отделить прошлого от настоящего. Историческое
прошлое, по мнению Оукшотта, не стоит вне современного мира опыта, как нечто
отличное от него. Поэтому мысль историка (культуролога) представляет собой
форму подлинного опыта, в котором дано лишь только то, что происходит в его
сознании теперь; поскольку он перемещает свой опыт на определённую дистанцию
в прошлое, он искажает его природу.
Р.Коллингвуд справедливо утверждает, что для исторического знания имеется
только один подобающий для него предмет – мысль, а не её объекты, сам акт
мышления. Сама мысль не включена в поток непосредственного сознания. В
определённом смысле она стоит вне этого потока. Мысль отличается от ощущения
или чувствования тем, что она никогда не представляет собой непосредственного
опыта. Пропасть во времени между мыслью в настоящем и её объектом в прошлом
заполняется не возрождением или воскрешением объекта, а только способностью
мысли преодолевать пропасти такого рода. Мысль, совершающая это, есть память
[65; 292, 281, 280]. “Историческое мышление, – пишет Р.Коллингвуд, – это
деятельность, представляющая собой функцию самосознания, форма мысли,
доступная только сознанию, осознающему, что оно мыслит исторически” [65;
276]. И продолжает: ”Историческое знание – это тот особый случай памяти,
когда объектом мысли настоящего оказывается мысль прошлого, а пропасть между
настоящим и прошедшим заполняется не только способностью мысли настоящего
думать о прошлом, но и способностью мысли прошлого возрождаться в настоящем”
[65; 280]. Понимание исторического (культурологического) знания как акта
мыслительной рефлексии позволяет Р.Коллингвуду отделить, с одной стороны,
историю от естественных наук, изучающих объективный мир, отличающийся от акта
мышления, а с другой – от психологии, которая занимается исследованием
непосредственного опыта, ощущений и восприятий, деятельности сознания.
Подчеркнём здесь глубокую мысль Р.Коллигвуда: природа исторического
(культурологического) знания не есть выражение непосредственного опыта, а
специфическое объективно-субъективное бытие мыслительной реальности,
рефлексивной деятельности.
Ценностно-мыслительная природа объективного мира культуры
Понятие культуры как объективной ментальной реальности является слишком
абстрактным, поэтому требует дальнейшей конкретизации. Мир культуры
представляет собой динамичную систему со сложными вертикальными и
горизонтальными связями, в котором можно выделить два слоя: отдельных культур
и метакультурный. Основу культурного процесса составляет сложное
противоречивое взаимодействие культур как целостных ментальных образований,
которых насчитывается приблизительно столько, сколько имеется государств.
Утверждение “приблизительно” связано с непрерывным характером культуро-
творческого процесса разложения старых и образования новых культур.
Совпадение числа государств и культур обусловленно важной ролью государства в
формировании пространства культуры. Основанием выделения такого множества
культур служит специфика организации ценностно-мыслительного пространства
каждой культуры, которое мы называем тематическим пространством, задающим
отличное от других восприятие мира, организацию собственного мира и
направление его развёртывания.
Для упорядочения многообразного материала культуры представляется
целесообразным использование аксиологического подхода. В процессе становления
культуры происходит формирование своеобразной ценностной структуры, которая
задаёт упорядоченное множество целей, идеалов, определяющих программы
поведения людей, их мыслительные ориентации и в целом их мировосприятие.
Поэтому всё многообразие продуктов культурной деятельности является
результатом направляющего воздействия ценностной системы культуры. В конечном
итоге, в своей основе культуры отличаются друг от друга ценностными
системами.
Понимание культуры как ценностно-мыслительного целого выступает важнейшей
характеристикой понятия культуры. Ценностно-мыслительный критерий различения
культур не является абсолютным, разделяющим культуры, подобно монадам,
непроницаемой границей. Однако он является, на наш взгляд, достаточным для
уяснения отличия и единства сравниваемых культур, что будет показано ниже.
Метафизическое обоснование ценностного мышления представлено в работах Ф.Ницше
(прежде всего, в “Воле к власти”). Впервые в истории философии он убедительно
показал ценностную
окрашеность
окрашенность мира, в котором мы живём, а процесс развития культуры – как
переоценку ценностей и, тем самым, совершил переворот в философии. “Мир
явлений,– пишет Ф.Ницше, – это значит мир, рассматриваемый с точки зрения
ценностей: урегулированный и подобранный по ценностям, т.е. с точки зрения
полезности в смысле сохранения и возвышения власти определённого зоологического
вида” [95; 263]. “Сфера действия моральных оценок: они являются спутниками
почти каждого чувственного впечатления. Мир благодаря этому является
окрашенным. Мы вложили в него наши цели и ценности: мы накопили благодаря
этому в себе колоссальную скрытую массу силы, но при сравнении
ценностей обнаруживается, что ценными считались самые противоположные вещи, что
существовало много таблиц благ (следовательно, ничего “ценного в себе”) [95;
108]. “Вопрос о ценностях фундаментальнее вопроса о достоверности:
последний приобретает серьёзное значение лишь при предположении, что разрешен
вопрос о ценности” [95; 281].
Природу ценностного сознания с присущей ему глубиной рассмотрел М.Хайдеггер в
работе “Европейский нигилизм”, анализируя метафизику Ф.Ницше и её влияние на
развитие западноевропейской философии и культуры. “В то время как вопрос о
сущем, – пишет М.Хайдеггер, – в целом издавна был и остаётся ведущим вопросом
всей метафизики, идея ценности в метафизике пришла к господству недавно и
решительно только через Ницше, причём так, что метафизика тем самым
решительно повернулась к своему окончательному осуществлению. Среди прочего
под влиянием Ницше учёная философия конца ХІХ и начала ХХ века становится
“философией ценности” и “феноменологией ценности” [172; 96]. “. Понятие
ценности в мысли Ницше играет ведущую роль. Вследствие воздействия его
сочинений идея ценности стала нам привычной” [172; 71].
Метафизическую основу ценностной заданности мира культуры в философии Ф.Ницше
составляет учение о воле к власти. “Все “задачи”, “цели”, “смысл” только формы
выражения и метаморфозы одной и той же воли, которая присуща всякому процессу:
воли к власти. Иметь стремление, цели, намерения, волю вообще– это то
же самое, что желать стать сильнее, желать расти – и желать также
средств для этих
целей [95; 316]. “Ценность – это наивысшее количество власти, которое
человек в состоянии себе усвоить” [95; 341]. Бытие он истолковывает как волю к
власти. “Мышление в ценностях принадлежит к той действительности,– пишет
М.Хайдеггер, – которая определена как воля к власти. Ценностная идея есть
необходимая составная часть метафизики воли к власти” [172; 95]. По Ницше,
действительное, определённое через волю к власти, каждый раз оказывается
переплетением перспектив и полаганий ценности. Ценности в то же время являются
условиями поддержания и наращивания власти. Поэтому воля к власти и полагание
ценностей выступают как одно и тоже [172; 100, 101].
Понятие же ценности раскрывается как значимое, стоящее, включающее в себя
какую-то цель, как “смысл”, “ради чего” всякого поступка, поведения и
совершения. “Ценности” по своему существу есть “точки зрения”[172; 71, 79, 80,
98] – подчёркивает М.Хайдеггер мысль Ф.Ницше. “.. Все эти ценности,– утверждает
Ф.Ницше, – рассматриваемые психологически, суть результаты
определеных
определенных утилитарных перспектив, имеющих в виду поддержание и усиление
идеи человеческой власти, и только ложно проецированы нами в существо
вещей. Это всё та же гиперболическая наивность человека: полагать себя
смыслом и мерой ценности вещей.” [95; 41].
Таким образом, пространство культуры ценностно нагружено, составляет
ценностное бытие. Ф.Ницше впервые обнаружил атрибутивный характер ценностного
мировосприятия и убедительно показал, что становление культуры, особенно в её
переломные периоды, осуществляется путём “переоценки ценностей”.
Онтологическое, феноменальное и теоретическое в культурологическом
анализе духовной культуры
Более полная реконструкция ментального пространства культуры возможна при
условии привлечения всего многообразия культурологического материала
(археологических памятников, произведений искусства, письменных исторических
и литературных источников и т.д.), фрагментарность которого частично
преодолевается в ходе культурологического анализа. Однако обращение с этими
разнообразными, неоднородными данными требует методологической осторожности,
строгого осознания границ культурологического исследования. На наш взгляд, в
культуре как объекте исследования необходимо различать три слоя, существенно
отличающиеся онтологически и гносеологически.
Онтологический слой культуры. Культура как объективная ментальная
реальность составляет метафизический, онтологический слой непрерывно текущего
объективно реального, духовного культурно-исторического процесса. Культура как
система объектиного
объективного духа представляет собой ценностно-мыслительное бытие,
развёртывание которого происходит посредством спонтанной деятельности
творческих личностей. Мир культуры творят люди. Поэтому природа онтологического
слоя культуры как антропогенного ценностно-мыслительного бытия существенно
отличается от бытия как внекультурной, внеценностной реальности.
Как известно, всякое описание объективного процесса сталкивается с проблемой
адекватности, носит характер неполноты, субъективизма. В этом смысле культура
как объективний
объективный дух выступает для нас в качестве трансцендентной реальности,
которая никогда не получит адекватного осмысления. Она всегда лишь частично
открывается нам. Метафизические исследования направлены на преодоление этого
разрыва между объективным ментальным культурно-историческим процессом и его
теоретическим описанием.
Поэтому методологическое значение выделения онтологического слоя культуры
требует чёткого осознания существенного различия между культурой как
объективной духовной реальностью и её концептуальным видением.
Мы должны, с одной
стороны, в полной
мере осознавать ограниченность и неполноту всякого теоретического описания этой
метафизической реальности ,
, а с другой – стимулировать метафизическую направленность
культорологических
культурологических исследований, движения мысли в глубину, к своим
истокам.
Феноменальный слой культуры. Другой слой культуры можно назвать
феноменальным(или эмпирическим), многообразие которого составляют
культурно-исторические события прошлого и настоящего, зафиксированные в
письменных исторических ,
, литературных источниках, произведениях искусства и др. Весь этот
разнообразный материал дан нам непосредственно и служит эмпирической основой
культурологического анализа. Феноменальный слой представляет собой дискретное
множество объективаций непрерывной работы культуры как объективной ментальной
реальности (онтологический слой). Поэтому он указывает на наличие более
глубокого слоя культуры, но сам таковым не является. Феноменальный слой
позволяет “услышать” объективный дух культуры, выявить его
ценностно-мыслительные ориентиры на том или ином этапе её развития.
Следует уточнить, что сами предметы материальной культуры, полученные в
результате археологических раскопок или иным путём, памятники скульптуры,
архитектуры, тексты и др. не составляют феноменального слоя культуры. Лишь
после их интерпретации, когда они “заговорят”, т.е. после их преобразования в
языковую, ценностно-мыслительную реальность, они приобретают статус
феноменального слоя культуры.
Таким образом, в культурологическом анализе важное место занимает
феноменальное истолкование, которое выступает в двух основных формах
вследствие различного соотношения субъективного и объективного в
культурологическом знании. Во-первых, при исследовании современного
ценностно-мыслительного пространства культуры, культуролог оказывается
погруженным в ментальное пространство культуры, непосредственно его
переживает и воспринимает. Поэтому в его свидетельствах в большей степени
найдёт выражение дух времени (пространство культуры). При этом следует
учитывать субъективные устремления автора. Во-вторых, в процессе изучения
культурного прошлого или чуждой для культуролога культуры задача
феноменальной интерпретации значительно усложняется, поскольку культурно-
историческое прошлое неизбежно подвергается трансформации из-за частичного
наложения на него современных автору ценностно-мыслительных ориентаций.
Однако, как отмечалось выше, это обстоятельство не приводит к полной
субъективизации культурологического знания.
Интенсивное развитие в ХХ в. исторической науки, культорологии и других
гуманитарных наук привело к значительному расширению поля теоретических
исследований. Но, это знаменательное обстоятельство имеет и обратную сторону, а
именно: формирование высокомерно-снисходительного отношения к исторической
науке до ХХ века как её донаучной стадии, которую Р.Коллингвуд удачно назвал
историей “ножниц и клея”. “Историю, конструируемую с помощью отбора и
комбинирования свидетельств различных авторитетов,– пишет Р.Коллингвуд,– я
называю историей ножниц и клея” [65; 245]. Не углубляясь в специальную область
методологии исторической науки, необходимо отметить непреходящее значение для
культуролога великих историков древности (Геродота, Т.Ливия, К.Тацита,
П.Кесарийского и др.). Бережное отношение к авторитетам, недостаточно
критический отбор материала, компилятивность – именно эти качества приобретают
большую ценность для культуролога, потому что только подобного рода источники
(летописи, хроники, художественная литература и т.д.) передают специфику
ценностно-мыслительного бытия эпохи, культуры в целом. При этом следует
учитывать различие свидетельств Геродота, К.Тацита, П.Кесарийского, с одной
стороны, о современной ему эпохе отечественной истории, в которых практически в
чистом виде находит выражение дух (ценностно-мыслительное пространство)
культуры. Такого рода источники и памятники художественной литературы являются
основным материалом для реконструкции тематического пространства культуры. С
другой – собщения
сообщения Геродота о скифах, Тацита о германцах, П.Кесарийского о вандалах
и др. дают чрезвычайно ценную информацию, специфика которой выражается, в
частности, в наложении ценностно-мыслительных систем двух культур – автора
повествования и народа, жизнь которого стала предметом изложения. Это
обстоятельство ярче проявляется в системе отбора материала и авторских оценках.
Теоретическая, математическая, статистическая нагруженность современных текстов
практически лишают возможности “услышать”, сопережить изучаемую культуру. Во
избежание недоразумений подчеркнём, что
высказаныевысказанные
возражения направлены не против современных методов критического анализа
источников, а преследуют цель отметить специфическую функцию подобного рода
источников как хранителей “духа культуры”. В этом смысле “История России с
древнейших времён” С.М.Соловьёва, в отличие от “Курса русской истории”
В.О.Ключевского, выше указанными достоинствами обладает, что вовсе не снижает
значимости работы В.О.Ключевского. С.М.Соловьёв по возможности старался
сохранить стиль летописей, документов. Характерно для него обращение к читателю
“послушать”, вслушаться в изучаемое время.
Таким образом, феноменальный слой служит культурно-эмпирической основой
выявления ценностно-мыслительного пространства культуры, а также
приоткрыват
приоткрывает движение к более глубокому слою мира культуры.
Теоретический мир культуры. Третий слой культуры составляет рефлексивный
“теоретический мир”, который образуется множеством философских,
культурологических, исторических концепций, претендующих на описание не только
феноменального, но и онтологического слоёв культуры. Это относительно
самостоятельный мир теоретических схем, которые упорядочивают, систематизируют
культурно-эмпирический материал, формируют целостное видение
культурно-исторической реальности. Создание какой-либо философской,
культурологической концепции есть достижение синтеза феноменального и
теоретического слоёв культуры. Поэтому, подобно тому, как нельзя говорить о
“чистом языке наблюдения” в естественнонаучном знании, нет возможности
утверждать самостоятельность феноменального слоя культуры. Приближаются к
текстам чисто феноменального слоя мемуарная, эпистолярная литература (сквозь
субъективные оценки явственно проступает духовное своеобразие эпохи), газеты,
стенографические отчёты. В большей степени у современных авторов или в меньшей
у древних повествователей он оказывается теоретически нагруженным,
обусловленным социально-историческими приоритетами, сознательно или неосознанно
принимаемыми авторами. Переживание органического единства
культурно-исторического материала, пронизанного, увязанного понятийными
схемами, приводит многих исследователей к методологически ошибочному убеждению
об адекватном соответствии высказываний в теории объективно происходящим
культурно-историческим процессам (“так оно и было”). Подобного рода
онтологизация концепции не допустима. История “наук о духе” убедительно
свидетельствует, что ни одна
коцепцияконцепция
не может “схватить” не только непрерывное становление объективно-духовного
культурно-исторического процесса, но и какого-либо конкретного события (даже
при мысленном допущении фиксации всех возможных обстоятельств, с ним
связанных). Вписанность последнего в непрерывный ход происходящего не позволяет
осуществить завершенный анализ.
Какое-либо произведение (философское, художественное и т. п.) как ценностно-
мыслительное целое, транслируясь в системе культуры, включается в её
ценностно-мыслительное бытие и таким образом из субъективной приобретает
статус объективной духовной реальности. Восприятие произведения (трагедии,
романа, философского труда) есть трансформация объективной реальности в
субъективную. Между ними имеет место ценностно-смысловое единство, но
“схватить” его никогда никому не удавалось. Всякая героическая попытка
мыслителя в этом направлении умножает смысловое многообразие, увеличивает
глубину трансцендирования объективного духа культуры.
По мере распространения и роста популярности некоторых идей, концепций
(философских, естественнонаучных и др.), художественных произведений
происходят изменения в ценностно-мыслительном и языковом пространстве
культуры. Так великие идеи и произведения “творят” эпохи. Когда они
превращаются в символ, стереотип, шаблон, порождают множество подражаний,
пародий, тогда их культурологическое значение максимально. Представители
последующих эпох и других культур, как правило, называют эти идеи, концепции,
произведения выразителями духа времени, поскольку они отражают существенные
стороны соответствующего периода развития культуры. Например, в середине ХХ
в. философия экзистенциализма в значительной степени определяла духовный
климат эпохи, в конце столетия подобную роль играет психоанализ.
Анализ логики изменения ценностно-мыслительного пространства культуры
приводит к выявлению своеобразной диалектики между её феноменальными и
теоретическими аспектами. Теоретическое в виде понятийных схем выступает
продуктивной формой самоосмысления культуры. По мере их принятия, превращения
в парадигму, что означает осуществление восприятия, мышления и практической
деятельности в соответствии с ними, они обрастают множеством смыслов и
превращаются в феномен культуры. Для современников некоторая концепция
(например, Платона или Канта) преимущественно выступает в теоретическом
значении, для представителей последующих эпох и других культур эта же
концепция выступает в теоретическом как некая понятийная система и
феноменальном, как выражение ценностно-мыслительных ориентаций эпохи. Граница
между феноменальным и теоретическим в художественной литературе ещё более
трудно различима.
Таким образом, границы между тремя слоями ментального пространства культуры
не являются чёткими и непроницаемыми. Напротив, они в значительной степени
подвижны и неопределённы. Однако, думается, различение онтологического,
феноменального и теоретического слоёв в культурологическом анализе не только
целесообразно, но и необходимо, потому что позволяет избежать существенных
методологических ошибок и иллюзий.
Государство как механизм формирования ментального пространства культуры
Понятие “культуры” как объективного ментального пространства является
максимально широким, поскольку включает все ценностно-мыслительные
образования некоторой культуры. Поэтому в качестве одной из составляющих в
него входит и государство как некая сложная духовная целостность, значимость
которого в возникновении и функционировании культуры особенно велика.
Государство в системе культуры является одним из важнейших механизмов её
саморегуляции, самоконструирования, который распределяет течение культурных
потоков, в той или иной степени упорядочивает ценностно-мыслительное
пространство культуры, пропагандируя одни идеалы и ценности и запрещая
другие.
Образование государства является необходимой предпосылкой и условием
формирования и развития пространства культуры вообще, и в то же время
разрушение государства приводит к
дезынтеграции
дезинтеграции пространства культуры, в конечном итоге к её гибели.
Культуры отличаются друг от друга структурой ценностно-мыслительно
пространства, которое задаёт ориентиры, программы всякого рода деятельности,
особенности мировосприятия и др. Наличие государства открывает возможность
осуществления культуротворческого процесса, который приводит к формированию
своеобразного пространства культуры. Государственная граница очерчивает сферу
регулируемых культурных процессов, локализует пространство культуры от
ассимилирующего влияния других культур, устанавливает “мембрану”, фильтрующую
внешние культурные воздействия, слабая проницаемость которой приводит к
нарастанию культурных различий между “мы” и “они”. В этом смысле правомерно
высказывание Гегеля: “Во всемирной истории может быть речь только о таких
народах, которые образуют государство” [32; 90]. Отсутствие же
государственности препятствует генезису культуры, особенно формированию высших
этажей профессиональной культуры. Незавершенный характер развития украинской
культуры был вызван отсутствием механизма государственной поддержки и защиты.
На взлёте своего развёртывания (середина ХVII в.) пространство украинской
культуры оказалось разорванным российско-польской границей, по обе стороны
которой блокировалось формирование национальной профессиональной культуры и в
то же время навязывались ценностно-мыслительные структуры польской и русской
культур. В этом смысле государственная граница выполняет ту же функцию в
становлении культуры, что и фактор географической изоляции в процессе
видообразования. Именно формирование механизмов государственной регуляции
знаменовало возникновение очагов древнейших культур Египта, Вавилона, Индии и
др.
Как важнейшее интегрирующее, самоконструирующее средство, государство играет
значительную роль в период развития, расцвета культуры. Оно обеспечивает
развёртывание пространства культуры, стимулируя деятельность творческой
элиты, преодоление его разрывов, конфликтного противостояния ценностных
ориентаций субкультур, поддерживая развитие интегральных связей, утверждение
общекультурных ценностей и идеалов.
Распад культуры и государства – два взаимосвязанных и взаимообусловленных
процесса. С одной стороны, вырождение, разорванность пространства культуры
приводит к разложению государства, к утрате его координирующей,
упорядочивающей функции; с другой – узкопартийные, максималистские решения
правителей могут разбить сосуд культуры как духовной целостности на множество
осколков.
§2. МетодолгияМетодология тематического культурологического анализа
Элементарный теоретический объект тематического
культорологического
культурологического анализа
Основу тематического культурологического анализа составляет задача выделения
списка тем, уяснения их содержания, субординации и связей между ними. Темы
рассматриваются как надличностные, относительно обособленные, целостные,
ценностно-мыслительные образования в большей или меньшей степени определяющие
цели, идеалы, ориентации людей. Как мыслительно-образные явления, темы имеют
рационально-иррациональный характер, несводимый как к рациональным понятийным
схемам, так и к чувственным образам. Множество тем образует тематическое
пространство культуры, которое обладает сложной структурой. Таким образом в
тематическом
культорологическом
культурологическом анализе темы выступают в качестве элементарных
теоретических объектов.
Эффективность тематического культурологического анализа в деле реконструкции
ментального пространства изучаемой культуры определяется тем, что теоретическое
осмысление преимущественно задаётся культурно-историческим материалом
(совокупностью письменных источников), а не теоретическими установками
исследователя. Текст навязывает свою волю культурологу, вынуждает его мыслить в
языке множества письменных источников культуры, в терминах (темах) изучаемой
культурной эпохи. Уяснение смыслового содержания тем и связей между ними по
существу означает погружение исследователя в ценностно-мыслительное
пространство культуры, которое будет ему задавать правила движения в нём.
М.Блок обращает внимание на необходимость усвоения словаря изучаемой эпохи с
целью более адекватной её реконструкции.
“Документы стремятся навязать нам свою терминологию,
-– пишет М.Блок,
-– если историк
к ним прислушивается, он пишет всякий раз под диктовку другой эпохи. Но сам-то
он естественно, мыслит категориями своего времени, а значит, и словами этого
времени” [16; 90]. Язык эпохи задаёт смысловую сеть мыслительного бытия эпохи.
Примечательно, что при изучении текстов культуры (в том числе и наиболее
теоретически нагруженных авторскими позициями философских, литературных и др.
памятников) просматривается
единобразие
единообразие, инвариантность тематических структур, что также
свидетельствует об объективном, надличностном характере ментального
пространства культуры. Степень успеха в исследовании определяется степенью
корректности семантической работы культуролога. Безусловно, элиминировать
ценностно-мыслительные приоритеты исследователя никогда не удастся. Однако в
тематическом анализе по крайней мере формируется фундаментальная
методологическая установка, согласно которой логика материала должна
детерминировать логику исследователя, разрушать его культуро-центристскую
установку.
При желании можно уйти в бесконечность по пути выявления тем некоторой
культуры. Однако в процессе анализа какой-либо культуры всегда можно выделить
конечное множество тем, раскрывающих с достаточной полнотой её тематическое
пространство.
Тематический подход формирует достаточно продуктивную исследовательскую
программу, реализация которой открывает возможность систематического анализа
ментальных пространств отдельных культур, культурных регионов, культурно-
исторического процесса в целом и, таким образом, позволяет глубже понять
единство и своеобразие отдельных культур, хода мирового культурно-
исторического развития. Что различает, например, культуры западноевропейского
региона (немецкую, французскую, шведскую и др.), и что даёт основание для их
объединения (как и культуры Канады и США) в единое целое – культуры Запада?
Единство этих культур обеспечивает общая фундаментальная тематическая
структура их ментальных пространств, которая образует единый ценностно-
мыслительный базис культур Запада. Различия же между ними в тематическом
содержании тематических структур локального порядка формируют пёструю картину
множества культур. Открытый характер этих культур, многовековые связи между
ними привели к любопытной диалектике процессов интеграции и дифференциации. С
одной стороны, регулярно возникающие “волны” культурных движений
распространяющиеся по ментальным пространствам культур (Возрождение, Барокко,
Классицизм, Просвещение и т.д.), очагами которых являлись английская,
итальянская, немецкая, французская и др. культуры, приводили к взаимному
наложению тематических структур, способствовали формированию общего духа
(метакультурного слоя) этих культур. С другой стороны, тематические структуры
этих движений трансформировались, преломлялись в тематическом пространстве
заимствующей культуры и наряду с протекающими собственными
культурологическими процессами приводили к формированию своеобразной
пространственной конфигурации культуры (австрийской, венгерской, испанской и
др.). Систематические исследования в этом направлении позволили бы
существенно продвинуться также в осмыслении африканского, исламского,
латиноамериканского и других культурных регионов.
Фундаментальная тематическая структура
Согласно разрабатываемому нами тематическому подходу во всякой культуре, на
любом этапе её развития можно выделить некоторое множество тем
,, выступающих в
функции аксиом. Их аксиоматический характер выражается в том, что представители
этой культуры эти темы-ценности принимают без доказательств, как нечто само
собой разумеющееся, не требующее обоснования. Подобного рода темы называются
нами доминирующими. В “жизненном мире” они выступают в качестве фундаментальных
принципов.
В ценностной системе культуры они выражают как абсолютные ценности,
бессознательно принимаемые большинством представителей этой культуры. Их
доминирующий, основополагающий характер проявляется при обращении к
культурно-историческому материалу (историческим, литературным и др. источникам)
исследуемой культуры, которые выступают в функции исходных посылок,
фундаментальных утверждений. Так, в культуре Древней Греции абсолютными
являютьсяявляются
темы “свободы”, ”закона”, ”справедливости”, ”разума”, ”добродетели”
“прекрасного”; в культуре Древнего Рима (особенно в
республиканскмй
республиканский период)
-– темы
“свободы”, “доблести”, “закона”, ”славы”; в русской культуре
-– темы “царя”,
“России”; в украинской (в период её становления в ХVI в.) – темы “земли”
и ”воли”. Не претендуя на полноту списка доминирующих тем упомянутых культур,
отметим, что в исторических и литературных произведениях, выражающих дух этих
культур, эти темы звучат на каждой странице, особенно при описании критических
ситуаций (в речах перед битвой, в клятвах и т.д.). Следует предостеречь от
упрощённого их истолкования. Как чрезвычайно широко транслируемые феномены
культуры, эти темы обрастают множеством смыслов, своеобразным защитным поясом
вокруг ядра. Поэтому вычленение содержания этих тем представляет достаточно
сложную задачу. Однако можно с
увереностью
уверенностью утверждать, что разрушение этих тем – ценностей в системе
культуры означает разрушение его ментального пространства, конец, “потерю
лица”. Следовательно, для уяснения специфики анализируемой культуры одной из
главных становится задача по выявлению списка, содержания доминирующих тем и их
отношений.
Доминирующие темы образуют устойчивые системы, которые мы называем
фундаментальными тематическими структурами (ФТС). ФТС составляет ядро,
сердцевину, генератор ценностно-мыслительного
постранства
пространства культуры в том смысле, что совокупность доминирующих тем
образует систему универсалий, которые определяют содержание всех тем-ценностей
и таким образом задают общую структуру ментального пространства культуры. Так,
среди множества культур доклассовых обществ прошлого и настоящего можно
выделить общую ФТС, состоящую из системы доминирующих тем “бога”, “силы”,
“натуры”, “рода” и “эроса”. Очевидно также, что смысловое наполнение этих тем
будет различаться в архаических культурах доклассовых обществ, в которых
господствовало мифологическое сознание. В то же время будет сохраняться их
инвариантное содержание. ФТС подобного типа культур можно представить в виде
единого монолитного кристалла с пятью гранями, каждая из которых являет собой
одну из доминирующих тем. В своей совокупности они задают пять
ценностно-мыслительных измерений тематического пространства культуры. Это
означает, что каждая тема, каждый элемент ментального пространства культуры
имеет нуминозно-родо-натуралистически-эротически-силовой характер. Поэтому при
изучении каждого ментального образования следует выявить религиозную,
натуралистическую, родовую, эротическую и силовую составляющие.
Важно, что единая ФТС генерирует монолитное тематическое пространство культуры,
неоднородность которого выражается в многообразии наполнения тем
натуралистическими, силовыми, эротическими и т.д. смыслами. В последующий
период цивилизованного развития рабовладельческого, феодального и т.д. обществ
тематические пространства культуры существенно усложняются, могут формироваться
двумя и более ФТС. Это обстоятельство приводит к образованию субпространств,
генерируемых каждой ФТС. Когда ценностно-тематические структуры различных ФТС
существенно отличаются, возникают разрывы в ментальном пространстве культуры,
и, как следствие, -
– порождаются социально-политические, экономические, нравственные
напряжения. Напротив, совместимость ФТС приводит к наложению субпростанственных
конфигураций, стабилизации ценностно-мыслительного пространства культуры.
Проблема “смерти” культуры
ФТС осуществляет синтез всего ценностно-мыслительного пространства культуры,
как уже отмечалось, составляет его ядро. Будучи наиболее консервативной
системой, ФТС в ходе культурно-исторического развития претерпевает изменения
(обновляется содержание доминирующих тем, их отношения). Модернизация ФТС
приводит к обновлению тематического пространства культуры. Когда
энергетический, интегрирующий потенциал доминирующих тем и ФТС в целом
падает, культура вступает в полосу кризиса, сопровождающегося разложением
ментального пространства, увеличением числа его разрывов. На языке
тематического анализа разрушение ФТС влечёт за собой распад ценностно-
мыслительного пространства культуры, что означает обвал фундаментальных
ценностей и конец, “смерть” культуры.
В современной культурологии, исторической науке достаточно полно изучены
экономические, социально-политические факторы, предопределяющие кризис.
А.Тойнби обстоятельно показал анатомию распада цивилизации. Однако ментальная
сторона этого процесса ещё недостаточно изучена. С точки зрения тематического
анализа понятие “смерти” культуры означает лишь окончательный распад духовной
культуры как целостного образования, но отнюдь не её полное уничтожение в
результате внутреннего разложения или внешних вторжений. Распад
государственности приводит к полной
дезынтеграции
дезинтеграции хозяйственной, социально-политической и духовной жизни, но
люди, носители ментальности прежней культуры остаются. После крушения Западной
Римской империи их было большинство. Поэтому можно утверждать, что в строгом
смысле гибели культуры не существует, а в культурно-историческом процессе –
перерывов постепенности. Осколки духовной жизни распавшейся культуры вливаются,
трансформируются в ментальном пространстве становящейся культуры, оказывая на
неё тем большее влияние, чем более развита была распавшаяся культура.
Таким образом, “смерть” культуры носит не абсолютный, а относительный характер.
Она означает разрушение, завершение существования некоторой ментальной
целостности, тематического пространства культуры. Культурно-исторический
процесс обладает двумя неотъемлемыми свойствами: непрерывной изменчивостью,
текучестью и инерционностью. Можно утверждать, что всякая культура, как и
амеба, “бессмертна”. И в том, и в другом случае мы не обнаруживаем “трупа”.
Амеба в процессе размножения делится без остатка на число дочерних клеток. Так
и ментальное пространство культуры в момент “гибели” рассыпается на множество
“осколков”, которые по инерции продолжают “жить” и вместе с тем претерпевают
трансформации, потому что множество людей, народ или народы остаются. Они же
являются современниками, участниками, жертвами, а главное,
-– носителями
изменчиво-инерционного культурно-исторического процесса. Известие из
Беловежской пущи о распаде СССР для большинства населения Советского Союза не
означало разрушение старой ментальной реальности и возникновения новой.
Становление последней происходило в течении нескольких лет по мере усиления
непроницаемости государственных границ и комплексного нарастания
дифференциационных процессов. До наших дней дошли и продолжают “жить” некоторые
тематические структуры от подвергшихся в далёком прошлом тотальному разрушению
культур инков и ацтеков испанскими завоевателями,
что сопровождалось
массовым уничтожением коренного населения. Возможно возражение, что в качестве
“трупов” умерших культур остаются памятники архитектуры, искусства, письменные
источники, некоторые из которых приходится даже расшифровывать (так называемые
“мёртвые языки”). Однако,
таковые “отложения” есть естественный результат культуро-творческой
деятельности. Отошедшие в прошлое эпохи, существенно отличающиеся тематическим
пространством от современного, также воспринимаются как “мёртвые”, чуждые,
требующие специальных усилий по их реконструкции. Греки конца V – первой
половины IV вв. до н.э. с трудом могли судить о событиях своей истории,
философах, поэтах столетней давности.
Каковы перспективы исследования “смерти” культуры, а точнее
,– перехода от
одной целостной тематической системы к другой при разрушении предыдущей с точки
зрения тематического подхода?
Прежде всего, следует обратиться к анализу ФТС, трансформации которых
предопределяют характер разрушения старого ментального пространства и
траектории формирования нового. Так, переход от поздней античности к раннему
средневековью после крушения Западной Римской империи можно представить как
последовательность сложных преобразований трёх взаимодействующих ФТС (античной,
христианской и языческой варварских племён), генерирующих три
субпространственные конфигурации. Анализ перестроек на уровне ФТС позволяет
выявить и проследить базовые, определяющие процессы ценностно-мыслительных
преобразований.
Выявление ФТС, а затем конструирование тематического пространства культуры
открывает возможность для осуществления более глубокого систематического
теоретического анализа изучаемой культуры. В работах философов, культурологов
понятия “дух народа”, “душа культуры” занимает важное, основополагающее
значение, смысл которых, однако, большей частью носит метафорический
характер, не подвергается дальнейшему теоретическому анализу. Тематический
анализ, на наш взгляд, позволяет продвинуться в осмыслении как духовной
культуры в целом, так и выявить конкретные смысловые тематические структуры
“духа” или “души” народа (ФТС ментального пространства культуры).
Достоинством предлагаемого тематического подхода является отсутствие наперёд
заданной, навязываемой теоретической схемы, определяющей смысл и направление
развития культуры и мирового культурно-исторического процесса. Как известно,
мы не можем утверждать существование конечной цели, пункта “Омега”,
универсальной закономерности, предопределяющей ход и развитие отдельной
культуры и мировой цивилизации. Повороты в истории отдельной или мировой
культуры в целом могут быть самые неожиданные. Поэтому культурологическое
исследование должно опираться исключительно на культурно-исторический
материал изучаемой культуры, а не на “априорно” заданные теоретические схемы,
тенденциозно его препарирующие в угоду субъективным интересам автора.
§3. Неоднородность ментального пространства культуры и своеобразие типов его
“жизнедеятельности”
Неоднородность пространства культуры по “вертикали”
Обращение к культурно-историческому материалу показывает, что при проведении
анализа ценностно-мыслительного пространства культуры следует учитывать его
неоднородность по “вертикали”. В истории культур переход к классовому
обществу влечёт за собой расслоение синкретической архаической культуры и
формирование по меньшей мере двух субкультур в единой культуре – официальной,
профессиональной, господствующей и народной, субпространства которых нередко
существенно различаются. В накладывающихся друг на друга и взаимодействующих
слоях культуры усложняется пространственная структура культуры в целом.
В теоретической форме неоднородность ценностно-мыслительного пространства
культуры по “вертикали” означает, что одна субпространственная конфигурация как
бы надстраивается над другой, одна тематическая система определяет,
транформирует
трансформирует другую. Так, формирование ментального пространства культуры
Киевской Руси можно представить в виде последовательного наслоения на
пространство языческой земледельческой культуры древних славян сначала
княжеско-дружинного, а затем христианского субпространств. Крещение Руси на
языке тематического анализа означает, что христианская тематическая система
становится официально принятой системой отсчёта всех ценностей. Последующее
распространение христианства в
КиевкойКиевской
Руси есть процесс расширения, развёртывания пространства христианской
субкультуры, наложение его на языческую ментальную систему. Поскольку “полное
затмение” одной тематической системой другой практически недостижимо, то
иерархически упорядоченное ментальное пространство культуры будет иметь
неоднородный характер: две крайне отличные тематические структуры и смешанную
форму.
Неоднородность пространства культуры по ”горизонтали”
Этнические, природно-климатические различия, исторические обстоятельства
приводят к формированию в рамках культуры относительно самостоятельных
целостных образований, что позволяет говорить о неоднородности пространства
культуры по “горизонтали”, когда отношения между субпространствами в системе
культуры основываются не на подчинении, вытеснении одного другим, а на
взаимном влиянии, интеграции при сохранении и укреплении целостности каждого.
Примером неоднородности по “горизонтали” в современной российской культуре
может служить взаимодействие татарской, башкирской, мордовской и др. культур.
Социальные революции в терминах тематического анализа описываются как замена
взаимодействий субсистем по “горизонтали” на воздействия иерархически
упорядоченные по ”вертикали”. Так, создание В.Лениным партии РСДРП и
организация социал-демократического движения означало появление
специфического субпространства и, таким образом, усложнение ментального
пространства русской культуры начала ХХ в. по “горизонтали”. Революционный
переворот в октябре 1917 г. установил господство идеологии ленинского
марксизма как доминирующей тематической системы и перевёл её отношения с
другими ментальными субсистемами в вертикальную плоскость. “Переоценка
ценностей” после “Великого Октября” привела к разрушению других тематических
структур и субпространств, в результате которой сформировалась своеобразная
вертикальная структура ментального пространства культуры, в которой можно
выделить три слоя: слой официальной, нагруженной марксистско-ленинской
терминологией и систематически навязываемой советскими и партийными властями
субкультуры, тематическое пространство которой определялось множеством тем
надличностного порядка (“КПСС”, “социализм”, “коммунизм”, “класс” и т.д.); в
слое неофициальной (по Э.Неизвестному, “катакомбной”) субкультуры преобладали
индивудуалистически-религиозные ценностно-мыслительные ориентации, ментальное
пространство которой было жестко локализовано в результате непрерывных
репрессивных действий властей по его разрушению; и слой промежуточной,
компромиссной субкультуры, представители которой старались не вступать в
конфликт с власть придержащими, создавали высоко гуманистические,
реалистические произведения. К этим слоям профессиональной субкультуры,
создаваемой творческими личностями, следует добавить обширное и также весьма
неоднородное субпространство, образуемое ценностно-мыслительными ориентациями
всего советского народа.
Неоднородность культуры по “вертикали” и “горизонтали”, с одной стороны, при
неумелом государственном регулировании может привести к конфликтным
противостояниям, разрывам ценностно-мыслительного пространства и, в конце
концов, к гибели культуры. С другой стороны,
продуманняпродуманная
культурная политика может эффективно использовать тематическое разнообразие для
дальнейшего развития культуры, потому что богатство различий культуры повышает
её внутреннюю устойчивость, вариабельность нахождения внутренних источников
преодоления кризиса. Здесь уместна аналогия с генофондом популяции,
разнообразие которого повышает устойчивость, приспособляемость популяции к
изменяющийся среде.
Метакультурный уровень ценностно-мыслительного пространства культуры
В историко-культурологическом анализе следует различать культурный и
метакультурные слои объекта исследования. Основным объектом тематического
анализа являются культуры как целостные, ценностно-мыслительные,
пространственные образования (аргентинская, бельгийская, монгольская,
нигерийская и т.д. культуры). Однако в современной культурологии нередко словом
“культура” обозначаются объекты, существенно отличные от
вышеназванных, что предопределяет некорректность и неполноту
культурологического исследования. Отличие этих объектов выражается в наличии
метакультурного слоя как специфической ценностно-мыслительной
суперпространственной надстройки. На наш взгляд, выявление метакультурного
слоя, его специфики, характера взаимосвязи с культурными образованиями
способствовало бы преодолению имеющих место неточностей и трудностей.
К подобного рода объектам относятся ментальные пространства империй (Римской,
Византийской, Арабского халифата и т.д.), но не только. Так, тематическое
пространство культуры Римской империи составляют субпространства культур
ДренегоДревнего
Рима, Греции, Египта, Галлии и т.д. как относительно замкнутых, целостных
образований, выражающих его культурный уровень. Вместе с тем, в него входят
тематические структуры экономического, политического, правового и др. порядка
как метакультурные образования, обеспечивающие метакультурную интеграцию
ценностно-мыслительного пространства в единое целое. Введение понятия
“метакультурного уровня” представляется целесообразным для фиксации того
обстоятельства, что некоторое произведение (философское, литературное и т.д
.) существует как бы в двух ментальных реальностях: с одной стороны, как
порождение духа некоторой культуры, народа, а с другой – как явление
межкультурное, инвариантное, космополитическое, совокупность смыслов, понятных
всему сообществу. Примечательно, что метакультурный слой нередко выражается в
специальном языке межкультурного общения. В эллинистический период таким языком
был греческий, в настоящее время – английский. Неосознание этого обстоятельства
создаёт иллюзию однородности тематического пространства. Поэтому при
осуществлении реконструкции ценностно-мыслительного пространства культуры
следует учитывать эти моменты. Воздействие некоторых метакультурных структур
(экономических, политических, правовых) носит обязательный, целенаправленный
характер, влияние иных происходит стихийно, непосредственно, бессознательно.
Аналогичная структура ценносто-мыслительного пространства Византийской империи.
Западноевропейская культура относится к феноменам чисто метакультурного порядка.
Как таковой в обычном смысле слова
западно-европейской
западноевропейской культуры не существует. Реально существует английская,
итальянская, норвежская, французская и т.д. культуры как целостные
пространственные образования. Достижения философов, писателей, музыкантов
(Данте, Декарта, Гёте и др.) есть прежде всего выражение национального духа
(порождение и феномен национального ментального пространства культуры).
Благодаря подобию тематических пространств отдельных культур Западной Европы
(но, очевидно, далеко не тождественности), их тесным культурным связям
(открытости ментальных пространств), выдающиеся явления культурной жизни
отдельных культур быстро становятся всеобщим достоянием (интерпретируются и
таким образом трансформируют ментальные пространства других культур). При этом
восприятие и значимость подобного рода произведений в различных
западноевропейских культурах будут отличны. Поэтому термин “западноевропейская
культура” фиксирует наличие некоторого общего, инвариантного ментального слоя
(общего духа западноевропейских народов), который представляет собой некоторую
абстракцию от отдельных ценностно-мыслительных пространств культур. Он
формируется стихийно, непроизвольно, до недавнего времени был лишён
императивного характера воздействия на культуры этого региона. Однако
интенсивные интегративные процессы в Западной Европе в последние десятилетия
приводят как к пространственному расширению метакультурного слоя, так и к
изменению его природы.
Развёртывание пространства западноевропейской культуры как метакультурного
образования во второй половине ХХ века приобрело планетарный характер. Всякое
творение некоторой национальной культуры (азиатской, африканской,
латиноамериканской и т.д.), ставшее элементом ментального суперпространства
западноевропейской культуры, приобретает характер мирового достижения. В конце
ХХ века информационная революция ещё более “разомкнула” ценностно-мыслительные
пространства культур. Ещё в начале ХХ века О.Шпенглер утверждал, что культуры
представляют собой замкнутые, несоизмеримые миры. Если раньше всякое творение,
ставшее элементом метакультурного суперпространства, было выражением качества
высшей пробы, а последнее формировалось как интегральное единство высших
достижений человеческого духа, то преимущественное развертывание
суперпространства “массовой культуры” в настоящее время приводит, с одной
стороны, к деградации метакультурного слоя, когда популярность произведения не
может служить свидетельством его высокого качества, с другой
-– к дальнейшей
“демократизации”, интернализации тематических структур. По нашем мнению,
метакультурные процессы не только следует учитывать в культурологическом
анализе, но и требует специального исследования.
Впервые в истории мировой культуры наиболее интенсивный рост метакультурного
слоя наблюдается в бассейне Средиземноморья в конце IV в. до н.э. после
завоевательных походов А.Македонского, когда интернализация культурных
достижений приобрела значительный характер. Сферы
относитительно
относительно замкнутых миров отдельных культур открылись для более
широкого культурного взаимодействия. Безусловно, процессы культурного обмена
имели место и раньше. Известно вавилонское и египетское влияние на развитие
греческой философии и науки, творчески её переосмыслившей. Однако впервые в
мировой истории эллинизация западного и восточного Средиземноморья привела к
формированию слоя «универсалий», общих образов, идеалов, ценностно-мыслительных
структур и понятийных систем в результате деятельности философов, учёных,
литераторов, скульпторов и т.д.
. Появился «дух» эллинизма, который как бы надстраивался над «духом»
отдельного народа, создавая ощущение гражданства цивилизованного человечества.
Школы платоников, стоиков и др., развитие литературы расширили и закрепили
процесс становления метакультурного слоя эпохи эллинизма. Образование Римской
империи привело к существенной трансформации суперпространственных ментальных
структур. Генезис христианства в период Римской империи сразу заявил себя как
надкультурное, наднациональное явление, как мировая религия (точнее, как
метакультурное явление средиземноморского масштаба). Следует заметить, что
именно в этот период впервые возникает один из наиболее устойчивых фантомов
западноевропейской цивилизации, служащий неуничтожимым источником
европоцентристского снобизма – неоправданной экстраполяции «универсалий»
средиземноморского масштаба на человечество в целом.
Эпохи рыцарства, Ренесанса
Ренессанса, великие географические открытия, экспансионистское
развёртывание западноевропейских культур Нового времени восстановили и в
значительной степени расширили метакультурный слой ментального пространства
культуры, который по мере ассимиляции культурных достижений Востока из
общеевропейского превращается во всемирный, оставаясь западноевропейски
ценностно-мыслительно нагруженным. Его развитие представляло собой
последовательность культурных движений, охватывавших всё большее число
культурных регионов: Возрождение, Реформация, Барокко, Классицизм, Просвещение
и т.д. Важную роль в интернализации тематического пространства сыграло развитие
науки. Общая структура метакультурного уровня эпохи Нового времени претерпела
существенные изменения.
На Востоке в силу относительной замкнутости индийской и китайской культур
метакультурные процессы не получили широкого развития.
Формирование и развитие метакультурного или слоя мировой культуры происходит по
мере интернализации высших достижений отдельных культур, которые как бы
отрываясь от национальной почвы, их породившей, приобретают статус образцов,
качество универсальности,
наиболее глубоких форм самосознания уже общечеловеческого духа. В этом новом
качестве универсальных образцов они, с одной стороны, способствуют углублению
самосознания в отдельных культурах, с другой
-– приобщению их
к духовной системе мировой цивилизации.
Таким образом, важнейшей чертой ментального пространства всякой культуры
является его неоднородность. В этом смысле можно утверждать, что ценностно-
мыслительное пространство культуры по своей природе плюралистично. С этим
обстоятельством мы сталкиваемся в нашей жизни ежедневно. Отношения в семье,
на работе, в госучереждениях, с друзьями и т.д. образуют длинный ряд
локальных ментальных миров, которые с точки зрения индивида имеют объективно-
субъективную природу. «Жизненный мир» каждого человека (по крайней мере в ХХ
веке) складывается из совокупности относительно самостоятельных ментальных
субпространств, некоторые из которых могут быть между собой несовместимыми.
Поэтому в деле стабилизации «жизненного мира» человека (его комплексного
жизненного пространства) достаточно актуальной становится проблема
соизмеримости его локальных миров, каждый из которых может иметь свои правила
игры, ценности, нормы морали и т.д. Стоит ли унифицировать, приводить к
одному основанию и таким образом разрушать их границы, выводить на одну сцену
всех действующих лиц? Одним из распространённых мелодраматических сюжетов в
современной литературе, кинематографе является разоблачение одного из таких
миров (например, внебрачной связи), что приводит к драматическим
последствиям, разрушению «жизненных миров» главных героев или их гибели. На
наш взгляд, эта проблема ещё не получила достаточного философского осмысления
как на индивидуальном, так и на культурологическом уровнях.
Из вышесказанного
вытекает, что важнейшим методологическим принципом культурологического анализа
ценностно-мыслительного пространства культуры должен быть принцип
неоднородности, согласно которому следует постоянно учитывать область
применения некоторого обобщения. Непонимание этого обстоятельства служит
источником множества неточностей и ошибок в культурологии, когда частному
утверждению придаётся статус универсалии. Показательным примером тому могут
служить культурологические суждения одного из самых глубоких философов культуры
ХIХ в. Ф.Ницше, меткие, ёмкие, хлёсткие, образные утверждения которого подаются
как универсалии. Так, критика и неприятие Ф.Ницше христианства, средневековой
культуры, народной культуры опирались в большей степени на положение об их
приверженности к культуре ressentiment, отрицании и подавлении «воли к
власти» как воли к жизни. Термин ressentiment был введен Ф.Ницше для
обозначения моральных, философских систем, религий, выражающих мировосприятие
низших, угнетённых слоёв общества, которые основываются на “мести” и “злобе”,
на “отрицании” как основных ценностях. “В то время как всякая
преимущестенная
преимущественная мораль,
-– пишет
Ф.Ницше,-
– произрастает из торжествующего самоутверждения, мораль рабов с самого
начала говорит Нет “внешнему”, “иному”, “несобственному”: это Нет и
оказывается её творческим деянием “[94; .2; 424]. Однако христианство, эпоха
средневековья, народная культура являются сложными многоплановыми ментальными
образованиями, в которых ressentiment выступает одной из многих
тенденций, ценностных ориентаций, но никак не единственной. Примером этой
методологической ошибки служит также большая часть универсальных утверждений
западноевропейских философов, культурологов ХIХ – первой половины ХХ вв.,
которые при глубоком рассмотрении оказываются “универсалиями”
западноевропейской культуры, но не мировой цивилизации.
“Экзистенциальный” и “рефлексивный” типы функционирования ментального
пространства культуры
В процессе сознательной, целенаправленной деятельности людей, преследующих
конкретные цели и интересы, формируется духовная целостность – ментальное
простанство
пространство культуры, которое по мере становления всё более выступает как
автономная самоорганизующаяся система, в свою очередь, упорядочивающая,
структурирующая ориентации и поведение индивидов и их сообществ. Поэтому
специфику пространства культуры, качественные особенности его функционирования
и организации определяют механизмы его саморегуляции. Развивая игровую
концепцию происхождения и природы культуры, Й.Хейзинга справедливо подчёркивает
упорядочивающий характер игры (“.игра творит порядок, она есть порядок” [174;
21]) и культуры: “Требование порядка и безопасности повелительно предписывается
всякой культуре самой её сущностью, её свойством быть тенденцией, стремлением к
чему-либо, направленностью на что-то” [174; 260]. Потребность в самоорганизации
для поддержания единства и целостности пространства культуры, обеспечения его
дальнейшего развёртывания вызывает необходимость в самоосмыслении, рефлексии
как внутреннем механизме саморегуляции. Вместе с тем в различных культурах
прошлого и настоящего механизмы самоорганизации и рефлексивная деятельность
выражены неодинаково, что позволяет различать культуры “рефлексивные”,
трансцендирующие, устремлённые за пределы наличного бытия, в которых возникает
и неуклонно расширяется интенсивная работа по самоконструированию,
самоосмыслению, самообоснованию, обеспечивающая динамику развития, преодоления
разрывов ментального пространства; и культуры “экзистенциальные”, естественно
пре-бывающие в наличном бытии, “сжигающие” в нём жизненную энергию, в которых
внутренние механизмы гармонизации, балансировки, модернизации ментального
пространства развития не получили.
“Экзистенциальная культура”. Этот тип бытия ментального пространства
культуры является наиболее распространённым в истории мирового
культурно-исторического процесса (приблизительно до ХVII в.) и уходит своими
корнями в мифологическое сознание. Конституирующим принципом, определяющим
своеобразие ценностно-мыслительного пространства культуры, является
бытие-в-настоящем, здесь-бытие. Если обратиться к анализу чистых форм этого
типа ментальности (всех культур до VI в. до н.э.), то мы обнаружим, что в ней
существенно редуцированы проекции в прошлое и будущее. Основные
ценностно-мыслительные ориентации очерчиваются горизонтом настоящего. Прошлое
(события «мифологического времени», первотворения и первопредков)
воспринимается как средство осмысления настоящего, вплетено в настоящее, как
его неотъемлемый элемент, раскрывает смысл и значимость настоящего.
Архитектурные сооружения (в том числе древние) формируют пространство
здесь-бытия. Архаическая поэзия (песни, гимны, пеаны и т.д.), различного рода
записи, фиксирующие исторические события, ориентированы воспеть, запечатлеть
настоящий момент. Их последовательное наложение, а также эпические произведения
создают историческую перспективу в прошлое. Однако они не формируют целевую
установку на реконструкцию исторического прошлого. Поэтому необратимый бег
исторического времени уносит в небытие прошлого основной массив информации по
мере смены поколений. В этом смысле дописьменные цивилизации, а также культуры
скотоводческих народов можно рассматривать как чисто «экзистенциальные»
культуры. К такому типу бытия ментального пространства относятся культуры, в
которых способы хранения и передачи информации посредством письменности были в
значительной степени локализованы, не получили развития.
Своеобразие ментального пространства «экзистенциального» типа выражается
также в том, что оно носит нединамичный, консервативный характер,
ориентированно на традицию. С точки зрения субъекта, погруженного в эту
ценностно-мыслительную реальность, оно представляет собой самодовлеющее,
заданное бытие, в котором господствуют стихийно сложившиеся надличностные
механизмы саморегуляции (обычаи, обряды, законы). Обычно им приписывается
сакральный, и поэтому неотвратимый характер. Потребности строительства
сложных ирригационных сооружений, больших дворцовых и храмовых комплексов,
развитие астрологических и математических знаний служили очагами зарождения
рациональности, рефлексивной деятельности.
«Рефлексивная культура». Возникновение философии в Древней Индии, Китае и
Греции, комплексные социально-экономические трансформации в VII – V вв. до н.э.
привели к формированию теоретической, рефлексивной установки, которая в свою
очередь вызвала преобразование ментального пространства культуры. Бог, человек
и природа и общество, т.е. три основные, реальности, стали объектом
рационального познания. Начался процесс выделения человека в целом и познающего
субъекта, в часности
частности, из синкретической реальности здесь-бытия и осознания своего
отчуждения. Созерцающий мыслитель встал на позицию внешнего наблюдателя этих
реальностей. Не углубляясь в анализ различий теоретического осмысления
действительности в Древней Индии, Китае и Греции, нам достаточно констатировать
наличие теоретического освоения этих реальностей. Последнее привело к
становлению ментального пространства культуры “рефлексивного” типа, суть
которого выражается в развёртывании деятельности по самоотражению,
самоосмыслению, самоконструированию. Таким образом, формируется
ценностно-мыслительное пространство как система принципиально иного, высшего
типа. Оно выходит за границы здесь-бытия. Неотъемлемыми его составляющими
становятся проекции в прошлое (в результате деятельности историков различных
областей) и будущее (в ходе нарастающей преобразовательной деятельности,
реализации планов, устремлённости к достижению идеалов). Интенсивная
теоретическая деятельность приводит к тому, что тематическое пространство
культуры становится преимущественно теоретически нагруженным, за исключением
субпространства народной культуры, народного фольклора.
Пространство “рефлексивной” культуры отличается более чёткой и ясной
очерченностью, расчленённостью, в частности выражается в росте специализации
и профессионализма, развитии законотворчества, фиксирующего социально-
правовые границы. В структуре такого типа культуры возникает необходимость в
наличии и воспроизводстве духовной элиты (политиков-правителей, философов,
историков, юристов, литераторов и т.д., профессионалов-интеллектуалов,
поддерживающих и совершенствующих функционирование системы культуры, без
которой она практически не может существовать. Поэтому в “рефлексивных”
культурах всегда имеет место культ образованности, сословная незамкнутость
(культуры Древней Греции, Рима, Китая, Византии), позволяющие осуществлять
подготовку и селекцию профессионалов-ителлектуалов.
Наличие специалистов (теологов, учёных, литераторов и т.д.) и системы их
постоянного воспроизводства обеспечивает дальнейшее развёртывание ценностно-
мыслительного пространства, выход на новые рубежи, прорыв устоявшихся
тематических структур пространства культуры и создание новой конфигурации.
Культура приобретает всё более поступательное развитие, цикл размыкается и
распрямляется. При этом удаётся смягчить кризисные периоды, осуществить более
плавный переход от разрывающейся, распадающейся тематической структуры к
другой, более сбалансированной.
Важнейшими признаками “рефлексивной” культуры являются: интенсивная работа
самообоснования, самообновления, трансцендирование во всех направлениях,
осмысление собственных перспектив. Внешним выражением этих процессов
выступает развитие философии, прочные философские традиции. Наиболее ярким
примером “рефлексивной” культуры выступает западноевропейская культура,
начиная с культуры классической Греции и республиканского Рима.
Рефлексивная деятельность формирует пространство культуры как отличное от
других, обособленное духовное целое. Развитое профессиональное искусство,
философия, литература создают “лицо” культуры, её ценностно-мыслительную
уникальность. В культуре возникает устойчивая рефлексивная установка:
постоянная обращённость духа на самого себя, вечное звучание вопроса “Кто
Я?”, “Куда мы идём?”. В “экзистенциальных” культурах рефлексивная установка
практически отсутствует.
Применительно к истории развития некоторой культуры можно выделить две
стадии: формирования (стадию “экзистенциального развития”) и зрелости
(ступень систематической рефлексивной деятельности). Несмотря на размытую
границу перехода от одной стадии к другой, это два принципиально различных
способа функционирования ментального пространства культуры. Если в
“экзистенциальных” культурах ценностно-мыслительное пространство есть
результат непосредственного коллективного творчества, то в “рефлексивных” –
преимущественно индивидуального. Культура Древней Греции приобретает
рефлексивный характер в V в. до н.э., русская культура – лишь в ХIХ в.
Поэтому следует принимать во внимание в культурологическом анализе
существенное различие культур, в которых рефлексивная деятельность не
получила развития, и культур «рефлексивных». При этом в «рефлексивных»
культурах рефлексивная деятельность может быть более напряжённой, интенсивной
или ослабевать, затухать. Лишь во второй половине ХХ в. можно говорить о
«массовом» переходе культур современности на «рефлексивную» стадию.
В настоящем разделе очерчены лишь контуры самой общей теоретической модели
тематического пространства культуры. Очевидно, что историко-
культурологический анализ приведёт к её видоизменению и конкретизации. По
нашему мнению, её эффективность определяется весьма значительной
эвристической силой, которая выражается в способности к дальнейшему
концептуальному развёртыванию и целеполаганию культурологического
исследования.
ГЛАВА II.
ФОРМИРОВАНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КУЛЬТУРЫ КИЕВСКОЙ РУСИ
(IX – первая треть XIII вв.)
§1. Проблема экспликации понятия «культура» в историко-культурологическом
анализе
Приступая к культурологическому анализу формирования и развития
ФТС, определяющей развертывание ментального
пространства древнерусской культуры эпохи Киевской Руси, необходимо
предварительно уточнить понятие культуры и проблему начала возникновения
культуры.
В исторических исследованиях обычно неявно принимается двоякое понимание
культуры, которое нередко приводит к неопределенности.
В основе одного представления лежит принцип территориальности
, согласно которому упорядочивание материала и
его рассмотрение происходит в границах некоторой территории. Историческое ра
звитие культуры, таким образом, складывается в виде
слоеного пирога: древние слои составляют сведения о первобытных поселениях,
затем рабовладельческий, феодальный слои и так
вплоть до современного. В настоящее время каждый этап все более детализируется.
Основу другого понимания культуры составляют
этноментальные характеристики, которые часто наз
ывают «духом», «душой» народа.
Чаще всего эта двойственность понимания культуры сливается в единое монолитное
целое, воспринимается как нечто само собой
разумеющееся и выступает проверенным, эффективным средством упорядочивания и
осмысления культурно-исторического материала. Однако в процессе этногене
за в границах некоторой территории, когда распадаются старые этнические
образования, возникают новые, сталкиваются
различные этносы (или культуры) в результате з
авоеваний и т.п., проявляется неоднородность,
двуполюсность понимания культуры подобного рода. Отсюда нередко
преувеличение одного из аспектов понятия культуры приводит к противоречиям и
парадоксам. Так, среди украинских историков,
культурологов преобладает территориальный подход в определении начала и гене
зиса украинской культуры. Украинскими называют поселения
трипольской культуры, этническая принадлежность населения которой до сих пор
неопределена. Те, кто отрицает вообще существование украинской культуры
, ссылаясь на отсутствие самостоятельной высокой
украинской культуры и т.п., с необходимостью сталкивается с трудностью
идентификации того культурно-исторического процесса, который имел место в этом
регионе.
В русской, советской и постсоветской
литературе проблема начала русской культуры и её пространственного ареа
ла ещё более неопределенна, имеет множество
противоречий, по существу методологически грамотно не поставлена и не
обсуждается. Единодушно эпоха Киевской Руси
относится лишь к русской ку
льтуре как её древнерусскому этапу, изначально
полиэтнический характер русской культуры (в этом
смысле, на наш взгляд, корректней было бы
употребление термина «российская культура») практически не учитывается и
настойчиво славянизируется. Фактически же
господствует «государственный» подход в оценке начала и пр
остранства русской культуры. К русской культуре относятся все те культурные
процессы, которые имели место в Киевской Руси,
Московском государстве, Российской империи, СССР и постсоветской России.
Неявность этого определения русской культуры, а, следовательно
, его методологическая и теоретическая непродуманность
, необоснованность, а также существенные изменения границ выше названных
государств и их ментальных пространств
-– все это
служит источником неопределённостей, неточностей в исследованиях.
Между тем, проблема экспликации понятия культуры в
историко-культурологическом анализе актуализирует важную проблему начала
возникновения культуры как универсальную проблему.
Когда выносится в заголовок монографии или учебника название “История
итальянской культуры” (или английской, или немецкой
.) и начинается рассмотрение с первобытных поселений
, то следует иметь в виду, что слово «итальянская ку
льтура» (или английская, или немецкая, или
французская и т.п.) употребляется в этой работе в
двух смыслах: широком и узком. Если в широком смысле в понятии «итальянская
культура» (и т.п.) преобладает территориальный
аспект понимания культуры (все культурно-исторические процессы
, которые происходили на определенной территории),
то в употреблении термина в узком смысле преобладает
этнически-ментальный аспект. Действительно, когда можно говорить собственно
о начале итальянской культуры? Можно ли относить
культуру Древнего Рима к итальянской культуре? В широком смысле употребления
понятия «итальянская культура», которое включает
все культурно-исторические процессы, происходившие
в границах нынешнего итальянского государства с древнейших времен
, культуру Древнего Рима (а также этрусков,
сабинян и др.), безусловно, следует считать одним из
этапов развития итальянской культуры. Понимание итальянской культуры в узком
смысле слова как этно-ментального образования, в
котором на первый план выступают национальные особенности
, когда происходит консолидация народа Апеннин
в итальянскую нацию, осознание себя итальянским народом,
можно говорить о начале итальянской культуры как специфической ментальной
реальности. Поэтому в этом смысле итальянская культура начала складываться в
эпоху средневековья, в начале второго тысячелетия.
На наш взгляд, проблема семантической двойственности
понятия «культура» носит универсальный характер. Осоз
нание этого обстоятельства снимает множество дискуссий,
когда спорящие стороны, опираясь на различные аспекты понимания культуры, ведут
рассуждения о различных отношениях. При этом позиции каждой из сторон имеют
достаточные основания. Так, к украинской культуре в ш
. культуры. Дальнейшее развитие «культурной палеонтологии
», несомненно, даст дополнительные аргументы этой точке зрения. Как уже
отмечалось в первой главе, «смерти» культуры как
таковой не существует. Распад культуры как целостной системы всегда оставляет
множество «осколков», которые «усваиваются»,
трансформируясь «продолжают жить» в последующих культурных образованиях. Ещё
должным образом не выявлено, не отслежено влияние
сарматов, скифов и др. на язык, топонимику,
ментальность украинской культуры. Надо полагать, применение методов
молекулярной биологии, генетики в культурологии,
когда будут составлены генетические карты, атласы народов нашей планеты
, убедительно покажет, что в генетически
й код современного украинца входят фрагменты генетического кода сарматов
, скифов, тюрков и др. В узком смысле украинская
культура начинается с формирования духа (ценностно-тематического пространства)
украинского козачества (с середины
ХV в.), когда украинские
козаки стали осознавать своё отличие как от московитов, так и от поляков.
К сожалению, проблема начала возникновения культуры еще не получила должного
теоретического и методологического осмысления в культурологии. Чаще всего
ограничиваются рассмотрением последовательности культурных сло
ев, начиная с древнейших поселений в границах
некоторой территории, и, таким образом, неявно
принятый в качестве исходного внекультурулогический
принцип территориальности фактически элиминирует проблему начала возникновения
некоторой культуры. Поэтому в культурологической литературе проблема начала
возникновения культуры не получила должного
внимания или формулируется и решается в достаточно абстрактной форме, как,
например, у А.Тойнби ("Вызов-и-Ответ
"). О. Шпенглера ("рождение", "детство"
культуры). Когда можно говорить о начале древнегреческой, французской
, немецкой, бразильской, монгольской и других культур? Представляется
, выделение единых, универсальных критериев вряд ли возможно и целесообразно
в силу неоднородности культурно-исторического
процесса.
В рамках предлагаемого понимания культуры как объективной ценностно-мыслительной
реальности проблема начала культуры сводится к выявлению её исходной
тематической структуры (ИТС), а рассмотрение
последующего её развертывания и преобразования
выступало бы как развитие культуры, её ментального пространства.
У культур, корни исторического развития которых
уходят в глубокую древность, в качестве ИТС может выступать тематическая модель
мифологического сознания с поправкой на особенности
мифологического восприятия конкретного народа. Очевидно
, что задача выделения такой структуры всегда будет сталкиваться с
трудностями неполноты эмпирического материала,
поскольку дошедшие до нас сведения чаще всего отрывочны или же записаны в более
поздний период уже внешним наблюдателем, непрои
звольно наложившим печать интерпретации другой
ценностно-мыслительной системы. Между тем,
теоретическая конструкция мифологического сознания не может быть универсальным
Например, у относительно молодых культур
(австралийской, канадской, США) в качестве исходного будет служить
ценностно-тематическое пространство на период колонизации.
предлагаемый способ решения проблемы начала возникновения культуры как выявление
её ИТС представляется достаточно эффективным. Если традиционный территориальный
подход служит средством внешнего упорядочивания
культурно-исторического материала, то тематический
подход позволяет проследить внутреннюю логику становления и развития Духа
изучаемой культуры как идеализированного объекта, разворачивающегося в
пространстве. При этом в зависимости от задач исследования любая фаза развития
культуры может рассматриваться в качестве исходной тематической структуры, при
условии наличия письменных источников, достаточных
для осуществления тематического анализа.
Так, построение ИТС
итальянской культуры возможно от начала основания Рима.
Исследование исходных тематических структур
белорусской, русской и украинской культур представляется целесообразным начать
языческой культуры древних славян. Как известно, мы не располагаем письменными
источниками непосредственно языческой культуры восточных славян. Имеются лишь
отрывочные сведения внешних наблюдателей (христианских писателей Киевской Руси
и чужеземных историков, путешественников, представителей других культур).
Поэтому конкретная реконструкция ценностно-мыслительного пространства я
зыческой культуры восточных славян не представляется во
зможной. Однако построение ее общей тематической модели не только во
зможно, но и необходимо в целях осуществления
систематического анализа духовной культуры в историческом развитии.
§2. Фундаментальная тематическая структура языческой культуры восточных
славян до прихода варягов на Русь
Реконструировать ментальное пространство культуры означает установить
соответствие между его ценностно-мыслительными элементами, привести их в
некоторую систему. Перечисление этих элементов и истолкование их содержания эту
задачу не решает. Только систематический анализ создаёт пространственное
видение Духа культуры. В рамках предлагаемого подхода культурологического
анализа, как уже отмечалось, в качестве элементарных теоретических объектов
тематического пространства культуры рассматриваются темы как объективные,
ценностно-мыслительные, целостные образования. Поэтому исходная задача
реконструкции ментального пространства восточных славян VIII
-– первой
половины IX вв. сводится к построению фундаментальной тематической структуры
как центра и основного его ценностно-тематического источника.
Приступая к тематическому культурологическому анализу, следует учитывать
неоднородность по “горизонтали” ментального пространства восточных славян.
Расселение древних славян по сторонам горизонта в Европе в VII в. положило
начало образованию племён (или союзу племён), проживание которых в различных
природных условиях, культурном окружении способствовало нарастающей культурной
дифференциации между ними. Это касается не только основных славянских
миграционных потоков (восточных, западных и южных), но и подобных процессов
внутри их самих. Поэтому базовым, наиболее устойчивым, целостным ментальным
образованием, безусловно, следует считать славянские племенные образования.
Именно они были реально существующими и функционирующими духовными
целостностями. Представляется более оправданным утверждение, что сами
славянские народы накануне возникновения государства осознавали себя, прежде
всего, а может быть и исключительно, представителями племени, мыслили
категориями родоплемённой жизни, потому что именно племя осуществляло основную
регуляцию жизнедеятельности. «Все эти племена, – отмечает летописец “Повести
временных лет”, – имели свои обычаи и законы своих отцов, и предания, и каждые
– свой нрав” [104; 31]». Поэтому можно утверждать, что в IХ в. слово “славяне”
сохранилось в употреблении преимущественно для внешних наблюдателей, для
которых со стороны этим словом обозначалась группа племён, схожих по
происхождению, языку, характеру, образу жизни и т.п. Примечательно, что
западные историки (например, Гельмгольд) употребляют слово “славяне” чаще всего
при обобщенных характеристиках, при описаниях конкретных событий они, как
правило, оперируют пле
менными категориями. Аналогию подобного не совсем точного употребления этнонима
можно найти в современной истории, когда всех граждан СССР внешние наблюдатели
называли русскими, Чехословакии – чехами, Югославии – югославами и т.д., что
весьма не совпадало с реальной этнической и культурологической картиной.
Поэтому, забегая несколько вперёд, следует отметить, что нельзя утверждать
существование до или в эпоху Киевской Руси как древнерусской, так и
белорусской, русской и украинской народностей. Осмысление материала в этих
категориях представляется очевидной модернизацией, потому что никто из
современников не мыслил себя, не осознавал себя таким образом. До возникновения
Киевской Руси наиболее стабильными, целостными, экономическими, культурными
единицами были племена (надплеменного уровня просто не существовало), затем они
были переименованы в земли (интегрирующие факторы в эпоху Киевской Руси были
слишком незаметными, чтобы была возможность почувствовать себя единым народом).
Всё текло, всё менялось в эпоху Киевской Руси, лишь земли проявляли
удивительную устойчивость, а их границы
-– постоянство.
Поэтому употребление терминов “белорус”, “русский”, “украинец” во время
Киевской Руси представляется некорректным.
Применительно к задаче реконструкции тематического пространства культуры
восточных славян утверждение о его неоднородности методологически означает:
необходимо стремится провести эти различия. Между тем, из-за отсутствия
конкретного культурно-исторического материала возможно построение лишь самой
общей теоретической модели.
Проведение тематического анализа духовной культуры является задачей
необъятной, не одного исследования. Показательным примером тому может служить
серия монографий А.Я. Гуревича по средневековой культуре. Центральной
проблемой в тематическом анализе становится выделение исходной,
фундаментальной, определяющей все тематическое разнообразие ценностно-
мыслительной структуры, образуемой доминирующими темами. Они определяют всё
тематическое пространство культуры и составляют его ценностно-тематическое
ядро. Поэтому в осмыслении ментальной культуры восточных славян основное
внимание будет сосредоточено на выявлении этой исходной, базовой, ценностно-
тематической структуры, вычленение которой предполагает выделение списка
доминирующих тем, анализа их содержания и отношений между ними.
Представляется целесообразным начинать анализ с выявления списка доминирующих
тем и определения их значения в тематической системе культуры. Доминирующими
темами как “аксиомами”, фундаментальными категориями, смыслообразующими
принципами, являющимися ценностно-тематическими источниками формирования
ментального пространства языческой культуры восточных славян, выступают:
“божественное”, “натура”, “эрос”, “род”, “вольность”, “физическая сила”.
Подобно аксиомам, эти темы выступают очевидными “истинами” мировосприятия
восточных славян, заданы непосредственно. Подобно категориям, они являют себя
как априорные схемы чувственности и рассудка, упорядочивающие весь
чувственно-мыслительный материал. Подобно принципам, они определяют
конструирование всего тематического разнообразия пространства культуры, его
смысловое содержание и иерархию ценностей.
Тема «натуры»
Начнём с темы “натуры”. Варварская жизнь славян была полностью погружена в
окружающую богатую природную среду. Можно сказать, что вне природы
жизнедеятельность восточных славян не существовала. Восточные славяне вплоть до
Х в. были поистине
детьми природы. Как известно, цивилизованный образ жизни предполагает
прогрессирующий процесс преобразовательной деятельности человеческого
сообщества, неуклонный рост ноосферы, созданного людьми культурного
пространства, чаще всего выражающегося в росте городской среды, прежде всего,
больших городов. В древнейших культурах планеты преобразовательная
культуротворческая деятельность выступает в качестве исходной, фундаментальной
ценностно-мыслительной ориентации (древнегреческой, вавилонской, индийской,
китайской). Это обстоятельство удачно зафиксировал А. Тойнби при объяснении
возникновения этих цивилизаций (“Вызов-и-Ответ”). Эта же особенность
ментальности находит яркое отражение в греческой мифологии, в мифах о
культурных героях, которые преобразовывают хаос тератоморфного мира в
рационально упорядоченный космос. Эта эстетически-преобразовательная,
конструктивная деятельность как характерная черта античной культуры была
воспринята, впитана в глубины европейского духа.
Напротив, славяне вольно селились на плодородных землях близ богатых рыбой рек и
зверем лесов, на что в один голос указывают историки. Умеренный климат и
благодатные природные условия формировали мягкий, уравновешенный характер и
размеренный образ жизни, в котором отсутствовали стимулы, потребность к упорной
преобразовательной деятельности. Поскольку окружающий природный мир был полон
богов (высших, олицетворявших природные стихии, и низших, пространственно
локализованных в рощах, полянах, реках и т.д.), то можно сказать, что
ментальный склад языческой культуры восточных славян (эти характеристики также
относятся к западным и южным славянам, хотя они к Х столетию и испытали уже
некоторое воздействие западноевропейской и византийской культур) носил чисто
натуралистический характер, не выходил за пределы естественных, природных
потребностей, интересов и представлений. Чтобы избежать неверных толкований,
следует подчеркнуть: натуралистический характер культуры восточных славян не
означает животный. Очевидно, славянское общество в VI
-– IX вв. на
переходе от варварства к цивилизации было достаточно сложным образованием, со
сложными внутри и межплеменными отношениями и достаточно развитой материальной
культурой, анализ которых лежит за пределами нашего исследования. В этой связи
представляется важным зафиксировать только то, что сфера ценностных ориентаций
восточных славян ограничивалась горизонтом мира природы. Ненатуралистических
ценностно-мыслительных ориентаций просто не существовало. Используя
терминологию Ф. Ницше, можно сказать, что языческая культура древних славян
была чисто дионисийской культурой. На возражение о необходимости допущения
существования христиан на территории восточных славян, можно ответить, что
христиане, если и были в IХ в. на землях восточных славян, то представляли
собой культурологически замкнутые образования, подобно отдельным изюминкам в
большом хлебном каравае, и на культурную ситуацию практического влияния не
оказывали. Примером тому же в Х в. может служить замкнутость в себе как
христианки княгини Ольги и описанный летописцем случай с варягом-христианином в
самом “просвещённом” городе Киевской Руси Киеве.
Древние славяне не выделяли себя из природы, осознавали себя как органическое
продолжение её “тела”, “видели” и “чувствовали” её изнутри. Результатом
подобного мировосприятия, как известно, явилось множество природных примет,
многообразие форм оборотничества.
“Натурализм” языческого славянского духа проявляется во всём образе жизни, носит
всеохватывающий характер. Это отмечают византийские историки, в частности, в
описании вооружения, военной тактики славян. “Вступая в битву, – пишет Прокопий
из Кесарии, – большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках,
панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни
плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бёдрах, и в таком
виде идут на сражения с врагами.” [127; 250], “... Эти варвары лучше всех
других умели сражаться в гористых и трудных местах.” [127; 319].
Псевдо-Маврикий в “Стратегиконе” пишет о славянах: “Они многочисленны,
выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище.
...Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в
теснинах, на обрывах...” [175; 26
-–27].
С темой “натуры” непосредственно связана проблема её пространственной и
временной упорядоченности в духовной культуре восточных славян. Не углубляясь в
достаточно разработанный материал, ограничимся перечислением основных
характеристик языческого времени: цикличность, т.е. периодическая повторяемость
природных циклов, а также первообразов поведения как эталонов, восходящих к
божественному прототипу: встроенность в настоящее прошлого и будущего, его
“вневременность”. “Здесь нет ясного различия между прошедшим и настоящим,
-– пишет А.Я.
Гуревич, -
– ибо прошлое вновь и вновь возрождается и возвращается, делаясь реальным
содержанием настоящего. Но, утрачивая самостоятельную ценность, настоящее
вместе с тем наполняется более глубоким и непреходящим содержанием, поскольку
оно непосредственно соотнесено с мифическим прошлым, с минувшим, которое вечно
длится. Жизнь лишается характера случайности и быстротечности. Она включена в
вечность и имеет более высокий смысл.” [45; 108]. Восприятие времени в пределах
смены поколений, родовых генеалогий, перечисление предков придают ему родовой
характер. Время неоднородно, антропоморфно, неточно. “Время столь же реально и
вещественно, как и весь остальной мир. Поэтому время можно упорядочивать и
разделять, так и поступили боги при сотворении мира: создав землю и небеса,
они разделили время и установили его исчисление. Время можно предрекать и
изменять его содержание. Следовательно, время для человека варварской эпохи
-– нечто
совершенно иное, нежели для нас: это не форма существования мира,
абстрагированная от вещей, а конкретная предметная стихия, ткань на станке
богов, и норны обрезают нити её
-– человеческие
жизни” [45; 111]. Время конкретно, насыщено жизненными переживаниями.
Пространство также воспринимается конкретно и эмоционально переживается. В
отличие от однородного физического евклидового пространства социальное
пространство, как известно, неоднородно. Однако характер неоднородности
современного социального пространства и языческого пространства древних
славян существенно различается.
Современное социальное пространство преимущественно профанизировано,
рационализировано. Область сакрального пространства в развитых культурах строго
локализована (храмы, святыни народа и т.д.). Современное социальное
пространство преимущественно рукотворно, отличается прогрессирующим ростом
разнообразия пространственных форм: “личное” пространство (дом),
пространственное многообразие различных социальных институтов, культурных,
спортивных заведений и др. При этом роль “личного” пространства постоянно
возрастает, которое всё более усложняется, наполняясь личными вещами,
становится органическим продолжением внутреннего мира (“мой дом
-– моя
крепость”). В последние десятилетия наблюдается бурный рост виртуальной
пространственной реальности в связи с развитием телевидения и особенно
компьютерной революции.
Языческое пространство преимущественно “натуралистично” и включает леса, степи,
реки, горы. “Личное” пространство пребывает в зародышевом состоянии и сводится
к примитивной утвари жилища
-– полуземлянки
или мастерской. В отличие от современного социального пространства языческое
пространство древних славян главным образом сакрально. Всё оно оказывается
заполненным богами и злыми духами (выступает ареной их борьбы и деятельности)
настолько, что локализация области профанного пространства не представляется
возможной. Вместе с тем, в сакрализованном пространстве выделяются места
повышенного божественного воздействия: прежде всего, святилища, а также
священные рощи, деревья, кладбища, перекрёстки и т.д.
Существенной особенностью пространства восточных славян является то, что
освоенная его часть теряется в его бесконечных просторах дикой природы. Для
представителя европейской культуры эпохи средневековья известный мир имел
достаточно чётко очерченную границу, за пределами которой находится terra
incognito – иной мир, другой структуры. В этот иной мир входят земли
восточных славян. Даже для византийских историков территория нынешней Украины
оставалась совершенно неизвестной. Для восточных славян, напротив, мир
бескрайних степей, дремучих лесов был родной средой обитания, а освоенная
европейцами ойкумена представляла собой мало изученную область, пригодную для
наживы. Тема “натуры” является источником натуралистических ценностей,
множества натуралистических тем частного порядка, которые требуют
специального исследования.
Тема “эроса”
Натуралистический образ жизни в качестве одной из важнейших чувственных,
ценностно-мыслительных ориентаций предполагает эротическое отношение к
действительности. Подобно тому, как соль равномерно растворяется в сосуде с
водой, так и ментальное пространство языческой культуры восточных славян было
наполнено эротическими вожделениями. Буйство жизненных сил в окружающей
природе создавало объективные предпосылки для формирования мировосприятия
через призму эротических представлений.
В более жёстких природных, демографических и др. условиях общества возникает
необходимость в более строгой регламентации половых отношений, семейной жизни.
“Неизбежно возникавшая потребность в регулировании численности жителей
Скандинавии, -
– пишет А.Я. Гуревич,
-–
удовлетворялась разрешенным языческими верованиями детоубийством. Новорождённого
приносили отцу, и он решал оставить ребёнка в семье или нет. Если он не считал
это возможным вследствие своей бедности, физических недостатков или слабости
ребёнка, младенца относили в лес или пустынную местность и оставляли на
произвол судьбы. Особенно часто так поступали с девочками. Если же
новорождённого окропили водой и отец дал ему имя и взял в руки, он считался
членом семьи, рода, после чего выбрасывание его расценивалось бы как убийство.
Мужчина имел право признавать или отвергать детей, рождённых вне брака от
рабыни или наложницы; если он не признавал ребёнка, его судьбой должна была
распорядиться сама мать. В те времена в ходу было понятие gravgansmenn
-–“ люди,
обречённые на могилу”: если вольноотпущенник не мог прокормить своё потомство,
детей оставляли в открытой могиле; бывший господин вольноотпущенника должен был
взять наиболее крепкого из этих несчастных, остальные погибали голодной
смертью. Показательно, что, когда в 1000 г. исландцы согласились принять
крещение, было оговорено сохранение старинного обычая выбрасывать
новорождённых. Эти варварские обычаи легко осудить, однако их нельзя объяснить
чёрствостью родительского сердца. Нужда ожесточает. Суровые климатические
условия Исландии постоянно держали её население под угрозой голода. Во время
сильного голода, постигшего остров зимой 976 г., убивали стариков. Видимо,
неспроста датчане в Западной Европе того времени прослыли обжорами: после
скудного питания на родине они с жадностью набрасывались на пищу, которой были
богаче жители более плодородных стран.” [44; 14].
Восточные славяне, напротив, привольно расположились на обширной территории
небольшими родовыми группами. Поэтому достаточно богатые природные условия
(особенно на юго-западных землях) и низкая плотность населения в значительной
степени смягчали напряжённость в социальных и, в частности, половых, семейных
отношениях. Примитивное жилище, чаще всего представлявшее собой состоящую из
одного помещения полуземлянку, неограниченная различного рода запретами свобода
женщины, глубокие традиции в употреблении спиртных напитков – всё это
способствовало формированию натуралистического, в буквальном смысле на лоне
природы образа жизни, в котором половые, семейные отношения не были жёстко
регламентированы, а эротическая сфера не была локализована. “А древляне жили
звериным обычаем, -
– пишет с негодованием летописец в “Повести временных лет”,
-– жили
по-скотски: убивали друг друга, ели всё нечистое, и браков у них не бывало, но
умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в
лесу, как звери, ели всё нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и
браков у них не бывало, но устраивались игрища между сёлами, и сходились на эти
игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жён по
сговору с ними; имели по две и по три жены.” [104; 31].
Подтверждением тому служит уходящая в глубокую древность, развитая
способность славян к сквернословию, которое является отголоском этой древней
эпохи самодовлеющего, господствующего эротизма. В тот период подобный способ
выражения не воспринимался столь отрицательно. Он был обычной, вероятно,
необходимой формой общения, нормой выражения, отражавшей всеобщую,
доминирующую роль Эроса в варварской жизни славян. Лишь с принятием и
утверждением христианства, объявившего тотальную войну натуралистическому
образу жизни, известный способ выражения получил негативную оценку как
сквернословие, как грех. Пропитанный эротизмом дух славянской языческой
культуры подлежал очищению от дурного запаха. Примечательно, что эротизация
современного ментального пространства в результате сексуальной революции,
падение уровня духовности, прогрессирующее распространение чувственно
вожделеющих ориентаций в современной культуре способствовали реабилитации
подобного языка, проникновению и утверждению его в областях, ранее для него
запретных и недоступных (в языках самых богатых слоёв общества,
художественной литературы, кино, телевидения и др.).
Тема “рода”
Эротическая насыщенность языческого мира восточных славян с необходимостью
предполагает органическую связь с темой "рода" (“порождения”, “плодородия”).
Фундаментальное значение темы "рода" в ментальном пространстве восточных
славян находит отражение в языке, в словах, выражающих жизнеопределяющие
ценности, корень которых составляет "род": род, народ, Родина, рожать,
урожай, природа и др. В слове "природа" ("при-роде") в полной мере
проявляется основополагающее, натуротворящее значение Рода как
универсального, производящего, божественного начала всего сотворённого. В
этой связи представляется справедливым утверждение Б. А. Рыбакова: “Род
оказывается всеобъемлющим божеством Вселенной со всеми её мирами: верхним,
небесным, откуда идёт дождь и летят молнии, средним миром природы и рождения
и нижним с его “огненным родством” [139; 453]. Тогда становится понятным
противопоставление Рода христианскому богу Вселенной Саваофу.
Б.А. Рыбаков убедительно показывает полифункциональность Рода: “Род
-– творец
Вселенной. Род вдувает жизнь в людей. Род
-– бог неба и
дождя. Род связан с земной водой (родники, родища). Род связан с огнем. Род
связан с подземным пеклом (
родьствородство
огненное). Род связан с красным цветом (рдяный, родный). Род связан с шаровой
молнией (родина).” [139; 458] Вместе с тем, трудно согласиться с утверждением
Б.А. Рыбакова о центральном, главенствующем положении Рода в пантеоне богов,
подобно Зевсу. Всеобщность, полифункциональность Рода носит всеохватывающий,
размытый характер как торжество универсального принципа плодородия, порождающей
силы. Однако силы не верховной, не деспотической, в значительной мере лишенной
карающей функции.
Буйство чувственности, своеобразный "демократизм" Рода является одним из
живительных источников его притягательной силы, устойчивости в мифологических
представлениях славян, несмотря на притеснения со стороны православной церкви.
“Перуну после крещения Руси молились только “по украинам”, а в культе Рода и
рожениц наши источники говорят как о повсеместном, устойчивом и неистребимом.
Известна даже календарная дата празднества и пиров в честь рожаниц
-– 8 сентября,
день рождества богородицы: известно, что “череву работные попы” ради
материальных выгод (“откладов”) примерились с бесовской трапезой в честь Рода и
рожаниц” [139; 201].
Значимость темы "рода" как фундаментальной мыслительной категории выражается
также в том, что осмысление мира осуществляется в терминах родовых отношений.
Категория "рода" в языческом мышлении древних славян выступает важнейшим
средством упорядочивания, структурирования материала. Мировосприятие через
призму универсальных родовых отношений является эффективным средством
определения места любого явления (божественного, природного, социального),
прежде всего, самого себя, в системе мироздания, характера его отношений с
другими явлениями. "Родовое мышление" древних славян функционально аналогично
современному детерминистскому мышлению. Если мы воспринимаем мир через призму
универсальных причинно-следственных связей, то для славянина-язычника
универсальные родовые отношения, отношения взаимного порождения приводили к
специфическому пониманию всеобщей связи, системной организации мира.
Логика «родового мышления» имплицитно включает принцип иерархического
построения мироздания (божественного, природного и социального миров).
Иерархически упорядоченный строй мышления является одной из определяющих черт
языческого мировосприятия варварских обществ, который получил дальнейшее
развитие по мере становления феодализма в Западной Европе. При этом следует
подчеркнуть, что если античному образу мышления, давно преодолевшему родовые
пережитки, иерархический традиционализм был глубоко чуждым явлением, то
иерархическая стратификация западноевропейского средневекового общества
преимущественно варварского происхождения.
Таким образом, одной из доминирующих ценностно-мыслительных ориентаций
древних славян в целом и в частности в социальных отношениях являлись
родовые, взаимного порождения связи, в которых представления о единстве как
специфической целостности народности, очевидно, не встраивались. Летописец в
“Повести временных лет” отмечает кровнородственную основу расселения славян:
"Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами; ибо и до
той братии (о которой речь в дальнейшем) были уже поляне, и жили они родами
на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно" [104; 27, 29]. Между
тем, "родовое мышление" восточных славян носило неоднородный характер. По
мере продвижения на север, где социальные, этнические и др. отношения
приобретали более устойчивый, стабильный характер, а природные условия
становились более суровыми, кровнородственные связи приобретали большее
значение. В юго-западных, лесостепных регионах, на территории нынешней
Украины постоянные стычки с кочевниками, миграция населения, периодическое
его перемешивание, сравнительно низкая плотность населения (жили небольшими
родами, семьями) подрывали кровнородственные отношения и создавали более
широкие возможности для индивидуальной свободы.
Тема “вольницы”
Тема “вольницы” как бытия произвола, отсутствия принуждения, простора в
действиях выступает одной из фундаментальных ценностей духа древних славян,
отличительной чертой славянского менталитета. Непосредственно на лоне природы,
среди её неосвоенных безграничных пространств, неисчерпаемых природных ресурсов
формировался независимый, самостоятельный, согласный с желаниями образ жизни
восточных славян, подчинявшийся плавному, самодовлеющему течению природных
циклов. Дух "вольницы", словно с молоком матери и вдыхаемым воздухом,
пропитывал весь строй славянской души, наполнял ощущением полноты жизни,
свободы волеизъявления. "Племена славян и антов сходны по своему образу жизни,
-– пишет
Псевдо-Маврикий в "Стратегиконе",
-– по своим
нравам, по своей любви к свободе: их никоим образом нельзя склонить к рабству
или подчинению в своей стране” [175; 261]. Рабство у славян, вероятно, не имело
жестоких форм, носило патриархальный характер. Оно словно было несовместимо с
доминирующим духом вольницы. "Находящихся у них в плену,
-– продолжает
Псевдо-Маврикий, -
– они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного
времени, но, ограничивая (срок рабства) определённым временем, предлагают им на
выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси, или остаться там
(где они находятся) на положении свободных и друзей" [175; 27].
"Вольный" образ жизни складывался не по мере формирования устойчивых правовых
механизмов социальных гарантий прав индивида, как это было, например, в Древней
Греции, а в результате в значительной степени отсутствия внешних факторов
принуждения, насилования. Проблема становления "духа вольницы" у восточных
славян требует более детального анализа. Здесь только заметим, что, вероятно,
исходными факторами его формирования были богатство природных ресурсов и низкая
плотность населения, которые, в свою очередь, тормозили развитие механизмов
социальной регуляции. Поскольку жёсткой борьбы за выживание не было, то жизнь
древних славян на уровне социальных отношений (племенных, родовых), в семейной
и индивидуальной жизни приобретали преимущественно неупорядоченный,
неорганизованный характер. Как свидетельствуют раскопки, восточные славяне жили
небольшими поселениями. Поэтому можно допустить, что в их жизненном мире
отсутствовали надродовые социальные ценности, которые возникают по мере
образования государства, сплочения народности и т.д. (“Русь”, "царь", "мы,
русские, украинцы"), приобретая самодовлеющее значение. Это обстоятельство
четко фиксируют историки. "Эти племена,
-– пишет
Прокопий из Кесарии, -
– славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в
народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни
считается общим делом" [127; 297]. "Так как между ними нет единомыслия, то они
не собираются вместе, а если и соберутся, то решенное ими тотчас же нарушают
другие, так как все они враждебны друг другу, и при этом никто не хочет
уступить другому" [175; 28].
В этой связи общественно-политический строй общества восточных славян можно
было бы назвать "варварской демократией", в основе которого лежал
“натуралистический анархизм” как проявление духа "вольницы", в котором
преобладали импульсивные действия, желания, стремления, произвол, неприятие
подчинения и т.д., а авторитет разума, порядка, закона были неразвиты,
подчинены, приглушены. Поэтому общество восточных славян к IX веку
представляло собой мало управляемое, аморфное образование. Это было общество
реального "натуралистического анархизма", в котором господствовали сильные
страсти, чувственные вожделения. Вместе с тем, это было общество несвободы,
потому что свобода, как известно, является одним из высших проявлений
цивилизованного существования, в котором господствуют разум, закон и свобода
личности как абсолютные ценности. К сожалению, до настоящего времени
восточным славянам не удалось осуществить переход к цивилизованному обществу,
в котором определяющей ценностью были бы индивидуальная свобода, защищенная
сетью правового законодательства.
Тема “физической силы”
Тема "физической силы" также является абсолютной ценностью языческого духовного
мира восточных славян и,
как и предыдущие, носит универсальный характер, т.е. как бы наполняет,
окрашивает всё ценностно-мыслительное пространство. Непоколебимый авторитет
физической силы отчётливо проявляется в наиболее древних пластах
восточно-славянского фольклора, в былинах, сказках и т.д. В древнерусских
былинах эта тема занимает центральное место и раскрыта с наибольшей полнотой. В
былинах наиболее ярким и древним образом, воплощающим неукротимую мощь
физической силы, является Святогор.
"Не с кем Святогору силой померяться,
А сила-то по жилочкам
Так живчиком и переливается.
Грузно от силушки, как от тяжелого бремени." [21; 34].
В былине "Илья Муромец" калики перехожие так говорят о Святогоре: "Его и
земля на себе через силу носит." [21; 105].
В натуралистическом ценностно-мыслительном пространстве физическая сила
выступала одним из основных критериев значимости объекта или явления.
Физическая сила составляет корень и ствол характера героя. Всё остальное
образует крону могучего дерева, является производным. Осевое значение
физической силы проявляется в нравственном языческом идеале.
Анна Комнина в своем труде "Алексиада", который посвящен описанию
царствования её отца, византийского императора Алексея Комнина, даёт тонкую
характеристику одному из мятежников Василаки: "Не говоря уже о других его
качествах, этот муж вызывал восхищение своим ростом, силой рук,
величественным выражением лица; такие достоинства более всего привлекают
грубый и воинственный народ. Ведь он не смотрит в душу человека и не обращает
внимания на его добродетель, но удовлетворяется телесными достоинствами,
восхищается смелостью, силой, быстротой бега и ростом, считая, что этих
качеств вполне достаточно для багряницы и диадемы" [66; 70]. На наш взгляд,
она удачно в образе Василаки фиксирует шкалу ценностей варварской, языческой
культуры, основу которой составляет грубая физическая сила.
И это вполне понятно: при натуралистическом образе жизни, когда социальные
механизмы регуляции общественных отношений не носят жёсткого характера, четко
не выражены, иерархия отношений, социальное признание в большой степени
зависит от физических способностей. К тому же на формирование языческого
культа силы непосредственное влияние оказывают неукротимые, господствующие
силы природы. В центральном божестве языческого пантеона Перуне наибольшее
почитание и поклонение вызывает его безграничная, торжествующая, неукротимая
мощь физической силы молнии и грома.
Культ силы является неотъемлемой чертой духовного мира варварской культуры.
Поэтому он может служить верным признаком определения древности источника.
Показательным примером выступает вся древняя мифология и, в частности, более
близкий для нас период -
– ирландский и исландский эпос.
Наиболее распространенным механизмом ослабления "силовых" ориентаций является
религиозная реформа, в результате которой формируется представление о
надвселенской глубине и могуществе трансцендентного Духа, как божественной
реальности, в сравнении, с которой физические возможности языческих божеств
кажутся ничтожными (иудаизм, буддизм, зороастризм, христианство, ислам).
Более гармоничный переход от варварства к цивилизации совершили древние
греки, нашедший отражение в греческой мифологии, в победе олимпийских богов
во главе с Зевсом.
Значительную роль в преодолении языческого культа силы в эпоху средневековья в
Западной Европе, помимо христианства и влияния античной культуры, сыграло
рыцарское движение с культом чести и служения даме как высшим духовным
ценностям. Показательна в этом смысле эволюция западноевропейского духа при
сравнении таких эпических произведений: "Беовульф", в котором господствуют
натуралистические силы, и "Песнь о нибелунгах", смысловой стержень которого
составляет борьба двух ценностно-мыслительных пластов в культуре: подчиненного,
языческого, натуралистического, основанного на примате физической силы, кровной
мести и т.д. и господствующего,
основанного на
христианских, рыцарских добродетелей. Эта проблема более подробно будет
рассмотрена ниже.
Тема “божественного”
Тема "божественного" или "нуминозного". Отрывочный и вторичный характер
материала о мифологии восточных славян, когда в качестве источников выступают
внешние наблюдатели, не позволяет уверенно судить о количественном составе
пантеона богов, их функциях, отношениях между ними и т.д. Как известно,
существует множество интерпретаций этого материала. С точки зрения
культурологии, центральной проблемой является осмысление роли божественного
в ценностно-мыслительном пространстве культуры. Поэтому придется ограничиться
общим анализом темы "божественного" в фундаментальной тематической структуре
культуры восточных славян.
На наш взгляд, исходным в понимании божественного в языческой культуре
восточных славян должно быть положение о его субстанциональном характере, как
нуминозной субстанции. Это означает, что славянские языческие боги составляют
основу, являются конечными причинами и определяют течение процессов
материального, социального миров. Однако если в монотеистических религиях
единый бог является единый универсальным "источником регуляции" всех процессов,
то в политеистических представлениях, следовательно, таких "источников" великое
множество. Поскольку, как известно, отношения между богами большей частью
являются зеркальным отражением социальных отношений, то, учитывая
децентрализованность жизни восточных славян, их социальных отношений, на этом
основании можно заключить об отсутствии "единоначалия" в иерархии славянских
богов. Кто был главным? Бог солнца Сварог или Перун
-– бог молнии и
грома? Очевидно, что эти боги вызывали наибольшее поклонение. Вместе с тем,
имеющиеся сведения о мифологии восточных славян не дают основания с
определённостью заключиш
ть главенство Сварога или Перуна подобно Зевсу олимпийскому. Весь мир
оказывается заполненным нуминозными сущностями: луга и поляны, реки и озёра,
холмы и горы, примечательные деревья и т. д. Местом обитания славянских богов
является вся Земля. Нет выделенного центра.
Таким образом, вырисовывается любопытная картина мировосприятия, в которой
преобладает разнокачественность, мозаичность, монадологичность мира.
Византийский историк Прокопий Кесарийский отрицает наличие у славян
представлений о судьбе: "Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по
отношению к людям имеет какую-либо силу..." [127; 297]. Это свидетельство
Прокопия "работает" на утверждение о мозаичной структуре мироздания, об
отсутствии представлений о какой-либо универсальности, универсальности чего-
либо. Ведь представление о судьбе является одной из зачаточных форм
формулирования закона.
Логично предположить, что божество славянского пантеона, как нуминозная
субстанция обладает многозначным смысловым полем: бог является носителем
наибольшей свободы, физической силы, производительной способности. Как
образец, бог выступает источником указанных ценностно-мыслительных
ориентаций.
Особенно следует подчеркнуть натуралистический характер славянской как,
впрочем, и всякой варварской мифологии. "Натурализм" славянских богов
означает, с одной стороны, что сфера их "обитания" ограничивается горизонтом
природы, а, с другой (и это главное) – эти боги воспринимаются как
чувственно-вещественные образования. Поскольку в "натуралистическом" образе
мышления всякое (в том числе духовное) приобретало телесный характер
(безусловно, в то время не существовало и не могло существовать представлений
о духовности как специфической реальности), то и бога должны были
рассматривать, как особого рода материальный объект, свидетельством тому
может служить слабое выражение в них нравственной составляющей.
Спиритуалистическое "понимание" бога как чисто духовной, трансцендентной
реальности в развитых религиях на первый план выводит моральный аспект его
сущности как источника высокой морали. Поэтому если в высших религиях
ценностно-мыслительное ядро образует система морали, то в языческих момент
нравственной регуляции не носит доминирующего характера. Если в высших
религиях основу взаимоотношений между богом и верующим составляет мораль, то
в языческих мифологиях отношения с богом носят преимущественно
натуралистический характер. Отсюда следует большое значение жертвоприношений
как способа чувственно-вещественного умилостивления богов. Земледельческий
образ жизни восточных славян ещё более привязывал к природным циклам
славянскую мифологию. Двойственный, чувственно-нуминозный характер носили
коллективные трапезы, пиры. Широкие застолья с обильными возлияниями
представляли собой, с одной стороны, всплеск чувственности, вожделений, а с
другой – выступали как священнодействия. Эти же чувственные вожделения
получили нуминозную окраску, как важнейший способ общения с божеством.
"Натуралистическое" своеобразие славянской мифологии выражается также в
непосредственно экзистенциальном происхождении мифологических представлений,
которые как бы естественно проистекают из жизни славянских племён, если у
многих народов формирование и развитие мифологии в большой степени обязано
рефлексивной деятельности жрецов, то у восточных славян мифологические
представления образуются, возникают как бы непосредственно, сами собой. Поэтому
они носят аморфный, несистемный, неупорядоченный характер. В этой связи
необходимо подчеркнуть неоднородность славянской мифологии в целом, и восточных
славян в частности. Поэтому при обобщениях следует проявлять большую
методологическую осторожность, потому что всякое историческое свидетельство о
славянах описывает лишь какую-то локальную группу славянских племён, а выводы,
как правило, историк делает в форме универсальных утверждений. Между тем,
говоря социологическим языком, выборка может оказаться непредставительной
(скорей всего, так оно и было) и поэтому вывод неправомерным. Вероятно,
целесообразно исходить из наличия общей, фундаментальной ценностно-мыслительной
основы духовной культуры славян, которая должна быть проанализирована и
зафиксирована в общей теоретической модели с последующей её трансформацией в
зависимости от особенностей природных условий и внешних культурных влияний на
ту или иную часть славянского этноса. Например, свидетельство Прокопия
Кесарийского (VI в.) относится, вероятно, к юго-западным славянским племенам. О
славянских богах он, в частности, пишет: "Они считают, что один только бог,
творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и
совершают другие священные обряды" [127; 297]. Гельмгольд, описывая жизнь и
борьбу прибалтийских славян (период с VIII по XII вв.), выделяет как главное
божество Святовита: "Среди множества славянских божеств главным является
Святовит, бог земли ранской, так как он – самый убедительный в ответах. Рядом с
ним всех остальных они как бы полубогами почитают. Поэтому в знак особого
уважения они имеют обыкновение ежегодно приносить ему в жертву человека –
христианина, какого укажет жребий. Из всех славянских земель присылаются
установленные пожертвования и жертвоприношения Святовиту" [33; 130]. Гельмгольд
приводит также любопытный пример внешнего культурного влияния на религиозные
представления прибалтийских славян (в данном случае христианства). “Пройдя
много славянских земель, они (христианские монахи
-– В.М.) пришли
к тем, которые называются ранами, или руянами, и живут в сердце моря. Там
находился очаг заблуждений и гнездо идолопоклонства. Проповедуя тут со всей
смелостью слово божье, они приобрели /для христианства/ весь этот остров и даже
заложили здесь храм в честь господа и спасителя нашего Иисуса Христа и в память
св. Вита, покровителя Корвейи. Потом же, когда по попущению божьему дела
изменились, то раны отпали от веры и тотчас же, изгнав священников и христиан,
сменили веру на суеверие. Ибо св. Вита, которого мы признаем мучеником и слугой
Христовым, они за бога почитают, творение, ставя выше творца... Они гордятся
одним только именем св. Вита, которому посвятили величайшей пышности храм и
идола, ему именно приписывая первенство между богами" [33; 45]. Исследователи,
правда, считают, что Гельмгольд смешивает культ христианского св. Вита и
языческого божества Святовита, который возник у славян значительно раньше.
Аморфный характер славянской мифологии делал её открытой к ассимиляции других
мифологических представлений. Поэтому становление и развитие языческой
мифологии юго-западных славян, вероятно, происходило под воздействием иранской
и тюркской мифологий, а северо-восточных – финских и других северных народов. К
сожалению, эти влияния недостаточно пока исследованы.
Завершая рассмотрение темы "божественного" как доминирующей в языческом
ментальном пространстве восточных славян, следует обратить внимание на
невыразительность темных сил, сил зла. Древнеславянская мысль не напрягалась
особенно, не прилагала большой духовной энергии в создании ужасных образов
демонических сил. Домовые, водяные, и др. оказываются народом достаточно
добродушным, не слишком мстительным. Это, впрочем, не означает безбоязненное
существование древнего славянина. Страх перед божественными существами
переполнял души славян. О всеобщей системе оберегов хорошо написал Б.А. Рыбаков
[141; 518-
–554]. Видимо, это обстоятельство отражает достаточное довольство
славянского образа жизни, отсутствие большого напряжения во внутренней жизни.
Таким образом, можно выделить шесть доминирующих тем в языческой культуре
восточных славян, универсальный характер которых образует фундаментальную
исходную ценностно-тематическую структуру ментального пространства, его
ценностно-мыслительное ядро. Эти шесть тем ("божественного", "натуры",
"эроса", "рода", "вольницы" и “физической силы”) составляют полный список
доминирующих тем, являются необходимыми и достаточными при рассмотрении
основополагающих характеристик языческой культуры восточных славян.
Выделенные темы выступают шестью ценностно-мыслительными измерениями, шестью
смысловыми проекциями тематического пространства культуры восточных славян.
Они составляют как бы "принципы" конструирования тематического пространства,
“аксиомы”, из которых “выводится”, проистекает всё богатство содержания
языческой культуры.
Все другие темы не имеют всеобщего характера и являются вторичными,
производными, комплексными образованьями. Поэтому осмысление производных тем
должно осуществляться посредством этих шести измерений. Так, при рассмотрении
производных тем "любви", "женщины" следует раскрыть натуралистический характер
любовных отношений и отношения к женщине, существенную роль в них
кровнородственных связей, своеобразие "вольницы" в половых и семейных
отношениях. “Что касается положения славянской женщины,
-– пишет С.М.
Соловьев, -
– то девушки, как видно, пользовались полною свободою” [150; 1; 101].
Говоря о женщинах периода Киевской Руси, Н.И. Костомаров отмечает, что
"киевские женщины славились сладострастием" [67; 20]. "На киевских женщин в
преданиях, сохраненных в песнях, легла память легкомысленности, развращения и
вместе с тем колдовства. Киевская кокетка привораживает к себе любовников и
меняет их по произволу" [67; 21]. Нуминозная сторона этих тем проявляется в
освящении их во время религиозных языческих праздников и обрядов (особенно,
Купала), в наделении женщины колдовскими способностями, демоническими силами. В
языческой славянской культуре женщина обладает богатырской физической силой. В
былине “Добрыня и Настасья” будущая жена знаменитого древнерусского богатыря
говорит:
"Ежели богатырь да молодыи,
Ежели богатырь нам полюбится,
Назову я себе другом да любимыим;
Ежели богатырь не прилюбится,
На долонь кладу, другой прижму
И в овсяный блин да его сделаю". [21; 62]
Дочь Ильи Муромца едет по чисту полю
"На добром коне она да ведь подъезживат,
А й одною рукой палицу подхватыват,
Как пером-то лебединыим поигрыват,
А и так эту палицу булатную покидывает" [21; 178].
Безусловно, в этом параграфе доминирующие темы только обозначены. Они требуют
более тонкого анализа, уточнения их связей и отношений, более полного
осмысления тематической структуры языческой культуры восточных славян в
целом. Однако наиболее важной представляется сама постановка задачи выделения
в явном виде фундаментальной ценностно-тематической структуры (ФТС)
ментального пространства языческой культуры восточных славян как
теоретической схемы. Это направление исследований, на мой взгляд, является
очень перспективным, формулирует плодотворную исследовательскую программу.
“Негативная эвристика” в культурологическом анализе
Ментальное пространство каждой культуры подобна комете, "ядро" которой
образует совокупность доминирующих тем, а "хвост" составляет множество тем
производных. Задача осознания своеобразия культуры также вызывает
необходимость в сравнительном культурологическом анализе, который в свою
очередь порождает слой "негативной эвристики". Этот термин, введенный в
методологию науки И. Лакатосом представляется целесообразным использовать для
обозначения совокупности высказываний в концептуальных построениях,
фиксирующих отличия изучаемой культуры от других (чаще всего образцовых,
древнегреческой, западноевропейской, древнеиндийской и др.), показывающих,
какими ценностно-мыслительными ориентациями она не обладает. "Негативная
эвристика" выполняет важную позитивную функцию осмысления своеобразия
культуры, а также позволяет избежать неправомерных аналогий, экстраполяций,
когда на основе подобия некоторой группы признаков сравниваемых культур
делается вывод об их единстве в целом или и в других признаках, например,
когда говорят о рыцарстве или "эпохе Возрождения” в русской культуре.
Примечательной особенностью,
на мой взгляд,
языческой духовной культуры восточных славян является отсутствие
индивидуалистически направленных ценностно-мыслительных ориентаций.
"Натуралистическое" восприятие действительности применительно к человеку
улавливало только биолого-
физиологическую сторону его существования. Поэтому
, вероятно, группа натуралистических ценностей, из которых определяющей
была "физическая сила", очерчивала горизонт варварского человека-славянина.
Понятия чести, достоинства, высокой ценности человеческой жизни и т.д.
относительно язычника-славянина неприложимы. Они требуют натуралистического
истолкования. И это понятно, потому что горизонтом всякой языческой культуры
являются натуралистические ценности.
Сверхнатуралистические, чисто духовные ценности возникают в истории мировой
культуры в "осевое время” (VIII - V вв. до н.э.) в древнеиндийской,
древнекитайской, древнегреческой, древнеиранской и древнееврейской культурах.
Механизм столь радикальной внутренней духовной перестройки пока в достаточной
степени не изучен. Во всех остальных культурах подобного рода "духовные
перевороты" вполне объяснимы внешними влияниями. На Западе воздействием
христианства и античной культуры, на Востоке - буддизма и китайской или
индийской культур, в последствии также ислама.
Восточные славяне проживали на территории для западноевропейцев мало изученной
(на картах западноевропейцев земли выше нижнего течения Днепра и Дона
практически не обозначены, т.е. не известны). Византийский историк VI века
Прокопий Кесарийский ограничивался описанием лишь прибрежных земель Эвксинского
Понта (т.е. Чёрного моря), специально оговариваясь на приблизительности его
сведений: "Такова окружность Понта Элевсинского от Калхедона (Халкедона) до
Византии. Но какова величина этой окружности в целом, этого я точно сказать не
могу, так как там живёт такое количество, как я сказал, варварских племен,
общения с которыми у римлян, конечно, нет никакого, если не считать отправления
посольств" [127; 388-
–389]. Археологические находки на территории Украины монет, керамики и др.
греческого и византийского происхождения могут свидетельствовать не только об
интенсивности торговых и культурных связей, сколько об успехах грабительских
походов славян.
Языческая культура восточных славян, подобно скифской, оказалась невосприимчивой
к античным и византийским культурным влияниям, несущим в сознание культ высокой
добродетели (чести, верности, доблести и т.д.). Только отсутствием последних
и доминированием тематической структуры
“силы
”, ”наси
лия”
и “
страсти”
можно объяснить свирепое зверство славян во время разбойничьих набегов, о чем
единодушно свидетельствуют византийские писатели и историки с VI по XI
столетия. Одно из наиболее ярких описаний оставил Прокопий Кесарийский:
“Варвары. силой взяли город. До пятнадцати тысяч мужчин они тотчас же убили и
ценности разграбили, детей же и женщин обратили в рабство. Вначале они не
щадили ни возраста, ни пола; оба эти отряда с того самого момента, как
ворвались в область римлян, убивали всех, не разбирая лет, так что вся земля
Иллирии и Фракии была покрыта не погребенными телами. Они убивали попадавшихся
им навстречу не мечами и не копьями или какими-нибудь обычными способами, но,
вбив крепко в землю колья и сделав их возможно острыми, они с великой силой
насаживали на них этих несчастных, делая так, что острие этого кола входило
между ягодицами, а затем под давлением [тела] проникало во внутренности
человека. Вот как они считали нужным обращаться с ними... Так сначала славяне
уничтожали всех встречающихся им жителей. Теперь же они и варвары из другого
отряда, как бы упившись морем крови, стали некоторых из попадавшихся им брать в
плен, и поэтому все уходили домой, уводя с собой бесчисленные десятки тысяч
пленных" [127; 365-
–366]. "Они (авары -
– В.М.) подослали племя славян,
-– пишет
Византийский историк Феофилакт Симокатта,
-– и огромное
пространство римских земель было опустошено. Славяне дошли вплоть до так
называемых "Длинных стен", прорвавшись через которые на глазах у всех произвели
страшную резню" [188; 35]. Описание подобных зверств со стороны славян легко
продолжить.
Недостаточное развитие индивидуализма, самосознания, сознания своего
собственного достоинства как нравственного, духовного существа
-– общий
критерий варварского существования. Отсутствие этих качеств в поведении
выражается в неверности, вероломстве, жестокости, неорганизованности и
недисциплинированности и т.д. Именно этими свойствами характеризуются славяне в
западноевропейских и византийских источниках. "В общем, они коварны,
-– пишет
Псевдо-Маврикий, -
– и не держат своего слова относительно договоров" [175; 28], "...славяне
по природе своей ненадёжны и склонны к злу, а поэтому их следует остерегаться"
[33; 58].
Те варвары, которые вплотную соприкоснулись с христианством и достижениями
античного духа, в относительно короткий срок испытали разительные перемены.
Вандалы, разрушители Рима, осев на севере Африки в Ливии, быстро усвоили
античный образ жизни. "С того времени, как они завладели Ливией, все вандалы
ежедневно пользовались ваннами и самым изысканным столом, всем, что только
самого лучшего и вкусного производит земля и море. Все они по большей части
носили золотые украшения, одеваясь в мидийское платье, которое теперь называют
шелковым, проводя время в театрах, на ипподромах и среди других удовольствий,
особенно увлекаясь охотой. Они наслаждались хорошим пением и представлениями
мифов; все удовольствия, которые ласкают слух и зрение, были у них весьма
распространены. Иначе говоря, все, что у людей в области музыки и зрелищ
считается наиболее привлекательным, было у них в ходу. Большинство из них жило
в парках богатых водой и деревьями, часто между собой устраивали они пиры и с
большой страстью предавались всем радостям Венеры" [126; 252
-–253].
Более глубокую духовную эволюцию претерпели готы, заселившие земли Апенинского
полуострова. Их самый знаменитый царь Теодорих, как пишет Прокопий Кесарийский,
“в высшей степени заботился о правосудии и справедливости и неприклонно
наблюдал за выполнением законов; он охранял неприкосновенной всю страну от
соседних варваров и тем заслужил высшую славу и мудрости и доблести. По имени
Теодорих был тираном, захватчиком власти, на деле же самым настоящим
императором, ничуть не ниже наиболее прославленных, носивших с самого начала
этот титул; любовь к нему со стороны готов и италийцев была огромна, не в
пример тому, что обычно бывает у людей” [127; 80]. После смерти Теодориха
власть принял его внук Аталарих. “Будучи опекуншей своего сына, Амалазунта
держала власть в своих руках, выделяясь среди всех своим разумом и
справедливостью” [127; 81]. “Амалазунта хотела, чтобы ее сын
по своему образу жизни был совершенно похож на первых лиц у римлян и уже тогда
заставляла его посещать школу учителя” [127; 82]. Согласно Прокопию, после
смерти Аталариха, власть захватил Теодат, одним из главнейших стремлений
которого были занятия философией,
и он считал себя
последователем платоновской школы [127; 93].
Безусловно, смягчению нравов готов в значительной степени способствовало
принятие ими христианства. Однако, анализируя ценностно-тематическую структуру
речей готских предводителей, которые приводит Прокопий Кесарийский (очевидно,
что эти речи не являются стенограммой действительно произнесенных речей; между
тем, представляется, общая ценностно-мыслительная направленность в них
воспроизведена), не вызывает сомнений, что определяющими мотивами поведения
готской элиты выступали образцы греческого и римского гуманистического духа
(доблести, справедливости, чести, верности и т.д.). В высоко гуманных,
благородных поступках царя готов Тотилы отчетливо прослеживается влияние
античных образцов. Приведем три показательных примера. “Когда Тотила взял
Неаполь, он проявил по отношению к сдавшимся так много человечности, что этого
нельзя было ожидать ни со стороны врага, ни со стороны варвара. Застав римлян
настолько истощённых голодом, что у них уже и в теле не оставалось никакой
силы, боясь, как бы, внезапно накинувшись на еду до крайнего насыщения, они,
как это обычно бывает, не задохнулись, он придумал следующее: поставив стражу в
гавани и у ворот, он не велел никому выходить оттуда. Сам он стал выдавать всем
пищу в меньшем количестве, чем им хотелось, мудро проявляя в этом своего рода
скупость, но каждый день он прибавлял столько к этой норме, что не
чувствовалось, что происходит эта прибавка. Таким образом, он укрепил их силы,
а затем, открыв ворота, он разрешил каждому из них идти куда он хочет" [127;
279-
–280]. Византийским воинам, защитникам Неаполя "он дал
им коней и повозки, одарил их деньгами на дорогу и разрешил им отправиться
сухим путём в Рим, послав вместе с ними в качестве проводников некоторых из
знатнейших готов” [127; 280].
Ниже Прокопий Кесарийский приводит другой пример благородства Тотилы, которое
можно рассматривать как продолжение лучших римских традиций. Когда один из
римлян явился к Тотиле и пожаловался, что кто-то из его телохранителей
изнасиловал его дочь, девушку, к нему тотчас явились знатнейшие из готов и
просили простить этого человека, потому что это был человек энергичный и
знающий военное дело. Тотила, в частности, ответил им следующее: “Я очень
хорошо знаю, что обычно большинство людей переделывает имена поступков и
действий и придает им другие значения. Человеколюбием и мягкостью они называют
нарушение законов, в результате чего происходит гибель всего честного и
хорошего и общая смута; они обычно называют человеком неприятным и тяжёлым
того, кто хочет точно выполнять закон, чтобы, прикрывшись этими именами, точно
щитом, им было безопаснее проявлять свою распущенность и предаваться
разврату... Невозможно, ни в коем случае невозможно, чтобы преступник и
насильник в жизни в боях мог проявить доблесть и удачу, но военное счастье
каждого определяется личной жизнью каждого". После его слов знатнейшие из готов
уже не стали просить его за его телохранителя. В скором времени он казнил этого
человека, все же его деньги, которые у него оказались, он отдал жертве его
насилия [127; 280-
–282].
Примечателен третий пример. Когда Тотила захватил Рим, то, исходя из
военно-стратегической оценки ситуации, решил разрушить его до основания. Узнав
об этом, главный его противник, наиболее знаменитый византийский полководец
Велизарий, отправил к Тотиле послов с письмом. Содержание его было таково:
"Насколько создавать новые украшения города есть дело и особенность людей
разумных и понимающих общественную жизнь, настолько уничтожать существующее
свойственно людям глупым и не стыдящимся на позднейшее время оставить эти
приметные знаки своей [дикой] природы. Из всех городов, которые находятся под
солнцем, Рим по единогласному признанию всех является самым большим и самым
замечательным. Он создался не доблестными силами одного человека и не мощь
короткого времени довела его до такой величины и красоты: целый ряд царей и
императоров, целые большие союзы и совместный труд выдающихся людей, долгий ряд
лет и наличие неисчислимых богатств, все, что есть только замечательного на
земле, все это собрали они сюда и особенно людей опытных в искусстве и
строительстве. Таким образом, создавая мало-помалу этот чудесный город, который
ты видишь, они оставили потомкам памятники доблести всех поколений. Так что
всякое насилие, совершенное против них, будет считаться великим преступлением
против людей всех веков, и правильно: это ведь лишит прежние поколения памяти
об их доблести, а тех, кто будет после них, радости созерцания этих творений.
При таком положении дел твердо знай следующее. Неизбежно должно произойти одно
из двух: или ты будешь побежден императором в этой войне, или, если это
случится, ты одолеешь. Так вот, если ты победишь, то, разрушив Рим, ты
уничтожишь, любезнейший, не чье-либо чужое, а свое собственное достояние,
сохранив его, ты обогатишься богатством, естественно, из всех самым
прекраснейшим. Если же для тебя суждено исполниться более тяжкой судьбе, то,
сохранив невредимым Рим, ты сохранишь себе со стороны победителя великую
признательность, если же ты его погубишь, не будет уже смысла говорить о
милосердии. Прибавь, что от этого дела тебе не будет никакой пользы. А затем
среди всех людей сохранится за тобой слава
достойного твоего дела;
она готова произнести свое решение над тобой и в ту и в другую сторону. Каковы
бывают дела правителей, такое по необходимости им присваивается имя". Тотила не
раз прочитал это письмо. Он понял его справедливость и больше ничего не делал
во вред Риму [127; 320-
–321]. Любопытно, что вскоре Велизарий вновь захватил Рим, значительно
ухудшив положение готов. В целом, сравнивая действия и образ мышления Тотилы с
императором Юстинианом и его главным полководцем Велизарием (особенно, если
учитывать книгу Прокопия Кесарийского "Тайная история"), считавших себя и
официально признанных наследниками высоких греческих и римских традиций
, по благородству, доблести, справедливости и т.п., то перевес,
на мой взгляд, безусловно, окажется на стороне "варвара" Тотилы.
В культурологии можно
сформулировать “универсальный культурологический закон”, который действует
однозначно и неотвратимо, подобно законам Ньютона: "всякая культура, открывая
(или переоткрывая) для себя культуру античности, с необходимостью переживает
взлёт духовности, гуманизма, который образует своеобразную "эпоху Возрождения".
Возможна другая формулировка этого "закона": "во всяком взлете духовности,
гуманизма в культурах европейского региона в качестве одной из составляющих
необходимых причин обязательно должно быть непосредственное влияние античной
культуры".
В одном из самых очаровательных периодов духовного взлёта в русской культуре,
"пушкинской эпохе" (особенно
, с начала XIX в. и до 1826 г.) важнейшим обстоятельством выступало
повальное увлечение античностью. В русской культуре если и можно говорить об
"эпохе Возрождения", то разве что относительно этого периода.
Таким образом, недостаточное развитие индивидуализма (т.е. индивидуалистически
направленных ценностно-мыслительных ориентаций), высокомерное к нему отношение
является одним из родимых пятен русской культуры, обусловивших тернистый путь
её развития, истоки которого берут начало в языческой культуре восточных
славян.
Другим в
Важнейшим обстоятельством в "негативной эвристике" в языческой культуре
восточных славян (в
том числе и восточных) был
а (и выступает)
бытовая неустроенность, в значительной степени равнодушие к внешней
обустроенности, благоустройству жизни, пренебрежительное к нему отношение, что
впоследствии получит устойчивый ярлык мещанства. Истоки этой традиции мы также
находим в языческой культуре восточных славян.
Опять обратимся к Прокопию Кесарийскому: "Живут они в жалких хижинах, на большом
расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места жительства... Образ
жизни у них, как у массагетов, грубый, без
о всяких удобств, вечно они покрыты грязью, но по существу они не плохие
и совсем не злобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нравы" [127; 297].
Жизнь славян проходила
в постоянной
м ожидании опасности со стороны других племен (чаще всего
, кочевников с лесостепной зоны). Псевдо-Маврикий отмечает : "Они селятся
в лесах, у неудобных рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много
выходов вследствие случающихся, что и естественно, опасностей. Необходимые для
них вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь
бродячую" [175; 27].
Западноевропейские источники отмечают эту особенность быта западных,
прибалтийских славянских племен вплоть до XII века. "...
оОни не
затрудняют себя постройкой домов, предпочитая сплетать себе хижины из прутьев,
побуждаемые к этому только необходимостью защитить себя от бурь и дождей. И
когда бы ни раздался клич военной тревоги, они прячут в ямы все свое, уже
раньше очищенное от мякины, зерно и золото, и серебро
, и всякие драгоценности. Женщин же и детей укрывают в крепостях или
, по крайней
мере,
в лесах, так что неприятелю ничего не остается на разграбление,
-–
одни только шалаши, потерю которых они сами легким для себя полагают" [33; 240].
“Иностранные писатели говорят, – пишет С.М. Соловьев,
– что славяне жили в дрянных избах, находящихся на далёком расстоянии друг
от друга, и часто меняют место жительства. Такая непрочность и частая перемена
жилищ были следствием беспрерывной опасности, которая грозила славянам и от
своих родовых усобиц, и от нашествий чуждых народов...
ОдинокаяОдинаковая
причина, действовавшая долгое время, производила
одинакиеодинаковые
следствия; жизнь в беспрестанном ожидании вражьих нападений продолжалась для
восточных славян и тогда, когда они уже находились под державою князей Рюрикова
дома... Привычка довольствоваться малым и всегда быть готов
ыму покинуть
жилище поддерживала в славянине отвращение к чужому игу"... [150; 1; 10
2].
Вероятно, существенную роль
здесь играют сложившиеся особенности душевного склада славян, которому
исследователи, к сожалению, не уделяют должного внимания. На мой взгляд,
славян-язычников отличает с одной стороны - тотальная заземленность,
погруженность в мир натуралистических переживаний, а, с другой, - какая-то
отстраненность, непонятная почему разочарованность в натуралистическом способе
существования, которая выражается как бы в нежелании развертывания
ориентирующегося на материальные ценности образа жизни. Очевидно, что подобного
рода противоречивая установка формировалась на уровне коллективного
бессознательного. И здесь исследование славянского типа с точки зрения
архетипов коллективного бессознательного, представляется, было бы достаточно
плодотворным.
В этом смысле
яЯзыческую
духовную культуру восточных славян можно было бы охарактеризовать как
культуру изначальной противоречивости, "надрыва". По-видимому, противоречивость
является наиболее эффективным способом описания славянской души как
противоречивой разорванной ценностно-мыслительной структуры. Действительно,
духовный мир славян-язычников составляют
, с одной стороны, неудержимая жажда индивидуальной свободы, с другой –
отсутствие ценности индивидуальности. С одной стороны, абсолютное господство
варварского натурализма, а с другой – его отрицание, странное неприятие
материальной обустроенности
жизниантичной культуры
. С одной стороны, – свирепая жестокость во время разбойничьих набегов; с другой
– смягченные формы рабства, удивительное для всех чужеземцев гостеприимство.
"...Гостеприимство и попечение о родителях занимают у славян первое место среди
добродетелей" [33; 328]. Противоречивость бытия, вероятно, пока наиболее
оптимальная форма выражения состояния славянской души, как
ценностно-мыслительной структуры, потому что просто ссылка на "душу", дух
народа, его "иррациональный" характер
, за последние
два столетия проявили себя как неплодотворные понятия. Казалось, что они
обозначают что-то глубинное, изначальное, фундаментальное. В действительности
, употребление этих терминов выражает предел философского осмысления,
сбрасывание в иррациональное самых важных, самых интересных проблем, признание
неспособности к дальнейшему теоретическому анализу. В философии, в
культурологии анализ всякого явления подлежит описанию в форме теоретических
объектов. Если понятия "души", "духа" народа не нашли выражения в форме
теоретических конструктов, "идеализированных теоретических объектов",
"идеальных типов", то с уверенностью можно считать, что они не нашли еще
теоретического описания.
Таким образом, с одной стороны, щедрая продуктивность окружающей природы, малая
плотность населения создавали благоприятные для жизнедеятельности условия, с
другой – постоянная угроза со стороны степи, кочевников-скотоводов –
всё это способствовало формированию уникальной культуры и ее пространственной
конфигурации, в которой отсутствовали стимулы к упорному систематическому
труду, улучшению быта и образа жизни и
, вместе с тем
, варварство приобретало смягченные формы (отсутствие жесткого культа
вождей, кастовой системы, воинственного характера, жесткой системы табу, обычая
умерщвления увечных новорожденных детей и престарелых родителей, относительная
свобода женщины и др.).
Третьей важнейшей
важной особенностью "негативной эвристики" языческой культуры восточных
славян является её "экзистенциальный" характер. Языческая культура древних
славян – это чисто "экзистенциальная" культура, которой присущи два
отличительные признака:
отсутствие потребности и возможности к трансцендированию и самоконструированию.
То есть, с одной стороны, для нее характерна привязанность ориентиров и
ценностей к сфере наличного бытия, отсутствие устремленности выйти за его
пределы в созданный более совершенный
, благоустроенный материальный мир или в умопостигаемый высший духовный
мир, жизнедеятельность людей осуществляется в заданном преимущественно
природной средой чувственно-материальном пространстве. С другой стороны,
отрывочные сведения о быте славян показывают удивительную аморфность,
неопределенность, неупорядоченность социальной структуры, религиозной жизни,
всего образа жизни. Это означает, что в родоплеменных сообществах полян,
древлян, кривичей и др. были слабо развиты социальные механизмы стабилизации,
упорядочивания общественного организма, практически отсутствовала
самоконструирующая деятельность.
Это была цельная культура силы, ловкости, удальства, непосредственных чувств и
страстей, душевной широты. В радости и в страдании эта культура не была
отягощена рефлексией, не замыкала свой взор на самое себя. Занятие земледелием,
тенденции к оседлому образу жизни создавали предпосылки для формирования
"рефлексивного"
типа культуры снизу (развитие материального производства, рост разделения
труда и социальной дифференциации и др.). Однако эти процессы были подорваны,
нарушены, заторможены внешними и внутренними дестабилизирующими факторами.
Поэтому характер языческой культуры восточных славян оказался двойственным: с
одной стороны, обращенным, полностью погруженным в чувственно-материальное
наличное бытие, а с другой,
-– славянская
культура, словно подкошенная
,
лишалась корневой опоры в этом же чувственно-материальном наличном бытии.
Вероятно, разрешение этого конфликта выразилось в усилении ориентации на
настоящее, непосредственное переживание и устремление на ближайшие заботы и
цели.
Завершая рассмотрение языческой культуры восточных славян, выделим два важных
момента. Во-первых, в этой культуре не получил развитие процесс
индивидуализации славян, приводящий к обособлению индивида. Во-вторых, в
тематическом пространстве языческой культуры, вероятно, не было темы
общеславянского единства. Представляется, кругозор восточного славянина
заканчивался на границе рода и племени.
§3. Образование княжеско-дружинного
субпространства и
особенности ее ценностно-мыслительного пространства (IX
-– X вв.)
С точки зрения т
ематического анализа,
образование государства Киевская Русь имело важнейшим следствием
формирование специфической ценностно-тематической системы, которую
мы предлагаем
называть княжеско-дружинной субкультурой, потому что она отражала
ценностно-мыслительные ориентации возникшего слоя князей-правителей и их
окружения, бояр-дружинников и др. Княжеско-дружинн
ое
субпространство
как бы надстраивалось
над пространством земледельческой языческой культур
ы восточных славян. Однако объяснение становления княжеско-дружинной
субкультуры, исходя лишь из внутренних факторов логики развития последней, не
представляется возможным. И здесь не миновать обсуждения проблемы роли варягов
в образовании древнерусской культуры. Взвешенный и корректный анализ
норманнской проблемы содержится в работе польского учёного Х. Ловмянского “Русь
и норманны” (1957), в которой в значительной степени преодолены крайности
сторонников
“норманнской теории” и антинорманнистов.
“Экспансия норманнов проявлялась,
-– пишет Х.
Ловмянский, -
– в различных формах: в грабежах, сборах дани с народов, подвергнувшихся
нападению, и их завоевании, наконец, в торговле. Ей сопутствовала эмиграция из
Скандинавии, приведшая к крестьянской колонизации..., что явственно проявилось
в Англии. В научной литературе издавна обращалось внимание на то, что формы
этой экспансии не были одинаковы на Востоке и Западе Европы” [77; 90]. На Руси
крестьянской колонизации не было. Отряды варягов состояли из воинов и купцов.
Х.Ловмянский приводит любопытную таблицу плотности названий
скандинавского происхождения [77; 40]:
Губерния | Плотность названий на 10 тыс. км2 |
| Псковская | 13 |
| Тверская | 7 |
| Ярославская | 6 |
| Владимирская | 5 |
| Новгородская | 5 |
| Петербургская | 3 |
| Смоленская | 3 |
| Черниговская | 1.5 |
| Киевская | 1 |
Анализ расположения топонимики скандинавского происхождения показывает, что
наибольшая плотность скандинавских названий определяется не политическими
обстоятельствами, не тяготеет к политическим центрам, а обусловлена торговыми
интересами. Как
видно из таблицы, если в Киевской губернии плотность скандинавских названий
минимальна, то в Псковской
-– наиболее
велика, потому что здесь находился важный волок на “пути из варяг в греки”.
Пройдя на восточнославянские земли, варяги не меняли уже сложившуюся
территориально-политическую организацию, не создавали свои этнически замкнутые
посёлки, а селились среди местного славянского населения, смешивались с ними и
быстро славянизировались благодаря бракам. Нередко славянские и скандинавские
захоронения были перемешаны, что также указывает на мирную совместную жизнь
этнических групп.
Помимо развития мирных торговых отношений экспансия шведов выражалась также в
сборе дани с северных финских и славянских племён, которую платили им в
качестве выкупа во избежание разорений. Примечательно, что эта форма варяжского
влияния не предполагала захвата власти над местным населением, создания
государственных институтов. Варяги в основном занимались грабежом и разбоями,
но не организацией управления. “...Известие о древнейших отношениях с варягами,
-– пишет Х.
Ловмянский, -
– видимо, свидетельствует о варяжских нападениях на северные финские и
славянские племена в первой половине IX в., о попытках брать выкуп или дань с
местного населения, может быть, и о попытках создать базу в Ладоге (кстати,
ликвидированную), наконец, о возможности мирного проникновения норманнов в
среду местного населения, вероятнее всего, в процессе торговых контактов” [77;
135]. Даже после того, как Олегу удалось собрать власть в единые руки в
Киевском государстве, управление обширными территориями по существу сводилось к
сбору дани.
Таким образом, не углубляясь в детали образования государства Киевской Руси, нам
достаточно констатировать скандинавско-славянский характер происхождения
княжеско-дружинной субкультуры, которая представляет собой своеобразный синтез
славянского и норманнского элементов. С появлением последней
ментальное пространство древнерусской культуры
усложнилось по вертикали, приобрело более
сложный, динамичный характер, состоящий из двух диалектически
взаимодействующих ценностно-мыслительных подсистем
: -
– языческой славянской и княжеско-дружинной субкультур. Главной целью
этого параграфа выступает задача выявления тематического,
ценностно-мыслительного ядра ФТС княжеско-дружинно
го субпространства
и характера ее отношений с
ментальным пространством земледельческой языческой субкультур
ы восточных славян до принятия христианства (т.е. до XI в.).
Тема “добычи”
Формирование духовного
пространства княжеско-дружинной субкультуры
в большей степени оп
ределяла стала
тема “добычи”. Неукротимая страсть к обогащению была привнесена в славянский
земледельческий мир воинами-торговцами варягами. Однако
, в скором времени она стала надэтнической основой формирования социальной
группы, для которой жажда добычи и связанный с ней всплеск чувственных
вожделений (битвы, охота, пиры, женщины и т.д.) служили нормой образа жизни.
Тема “добычи” пропитала все пространство княжеско-дружинной субкультуры,
выступала главной, всеобщей целью. Все остальное становилось подчиненным этой
пожирающей страсти. Тема “добычи”
многолика – это и золото, и серебро, и меха, и кони, и женщины, и рабы,
и вино и др. В памятнике XI в. “Русской правде” преступления рассматриваются
через призму денежной компенсации. Н.И. Костомаров назвал “Русскую правду” как
“правила собирания княжеских доходов” [67; 56]. Дух наживы как всеобщей
поглощающей страсти постепенно проникал в пространство славянской языческой
культуры.
Тема “добычи”, подобно плотоядному Молоху, разорвала цикличность земледельческой
славянской языческой культуры, а с ростом феодальной раздробленности она
придавала древнерусской культуре в целом все более саморазрушающий,
самопоедающий характер, потому что именно ненасытное стремление к злату и
серебру порождали постоянные раздоры и грабежи, и, как следствие,
– разорение
“Русской земли’’
.
Однако в многозначной теме “добычи” почти отсутствовал мотив накопительства
богатств, приобретения и строительства родовых гнезд, вложения в недвижимое
имущество. Жизнь в постоянных битвах и единоборствах, когда немногие доживали
до преклонного возраста, постоянная угроза смерти
-– все это
способствовало формированию “идеологии” сегодняшнего дня. Реализация желаний не
проектировалась в отдаленное будущее. Человеческие страсти требовали
немедленного удовлетворения, сжигались здесь и теперь.
Важной чертой, характеризующей образ идеального князя, считалась его щедрость по
отношению к дружине, а позднее
-– к церкви.
“Мстислав явился богатырем,
-– пишет С.М.
Соловьев, -
– который любил только свою дружину, ничего не щадил для нее, до
остального же народонаселения ему не было дела” [150; 1; 204]. Известна
крылатая фраза Владимира: “С дружиной приобрету серебро и золото”. “Из этих
слов летописца можно видеть,
-– отмечает С.М.
Соловьев, -
– что современники и ближайшие потомки с неудовольствием смотрели на
поведение старших Ярославичей, которые не следовали примеру деда и копили
богатства, полагая на них всю надежду, тогда как добрый князь, по
господствующему тогда мнению, не должен был ничего скрывать для себя, но все
раздавать дружине, при помощи которой он никогда не мог иметь недостатка в
богатстве” [150; 1; 348].
Вместе с тем, как справедливо замечает В.О. Ключевский, “в больших городах
Киевской Руси XI и XII вв. в руках князей и бояр заметно присутствие
значительных денежных средств, больших капиталов. Нужно было иметь в
распоряжении много свободных богатств, чтобы построить из такого дорогого
материала и с такой художественной роскошью храм, подобный киевскому
Софийскому собору Ярослава. В половине XII в. смоленский князь получал со
своего княжества только дани, не считая других доходов, 3 тыс. гривен, что
при тогдашней рыночной стоимости серебра представляло сумму не менее 150 тыс.
рублей” [62; 1; 276].
Большие денежные средства циркулировали между княжествами, не приводя к
существенному повышению уровня жизни их владельцев. Они шли преимущественно на
удовлетворение текущих потребностей. В “Галицко-Волынской летописи” мы читаем,
как тяжело заболевший князь Владимир Васильевич раздал свое имущество нищим:
большие серебряные блюда, кубки золотые и серебряные сам перед своими глазами
разбил и перелил в гривны. И здесь же летописец, описывая сложные переговоры
между князьями, приводит любопытную деталь, указывающую на простоту княжеского
быта: “И, взяв соломы из постели своей в руку, сказал: “Если бы я тебе,
-– скажи,
-– брат мой, дал
этот клок соломы, и того не давай после смерти моей никому” [106; 401].
Своеобразная критика недостаточно роскошной жизни киевского князя содержится в
былине “Дюк Степанович”. Основу ее сюжета составляет противопоставление
изнеженной роскошью, поражающей своей красотой галицко-волынской
княжеско-боярской жизни, испытывающей на себе непосредственное византийское и
западноевропейское влияние, и неустроенной, простоватой, чуть прокисшей жизнью
киевского двора. “Да у Владимира все не по-нашему”,
-– повторяет Дюк
и указывает на недостатки мостовых, нерасписанных стен и потолков, прокисшего
вина, калачей и т.д. Когда возмущенный чванством Дюка Владимир посылает Добрыню
на родину Дюка, тот воочию убеждается в Дюковом богатстве. В былине по существу
констатируется отрыв материальной западноевропейской культуры от культуры
Киевской Руси позднего периода.
Квинтэссенцией духа княжеско-дружинной субкультуры, ее жизнеобразующим центром
являются непрекращающиеся пиры и застолья, которые представляют собой яркое
воплощение хмельной, буйной и разгульной жизни. “Пир был душою общественной
жизни, -
– пишет Н.И. Костомаров,
-– ...
Нна всякую
неделю князь устраивал пир в гридницах на дворе. На пирах этих ели скотское
мясо, дичь, рыбу и овощи, а пили вино, мед, который меряли проварами (варя 300
провар меду). Мед был национальным напитком. На пир созывались не только
киевляне, но и из других городов. В гридницу допускались пировать бояре,
гридни, сотские, десятские; народ
-– люди простые
и убогие обедали на дворе; сверх того по городу возили пищу (хлеб, мясо, рыбу,
овощи) и раздавали тем, которые не могли по нездоровью прийти на княжеский
двор.
Эти пиры происходили в то же время не только в Киеве, но и в других городах;
поэтому в пригородах киевский князь держал запасы напитков, так называемые
медуши. Как такие пиры были привлекательны, видно из того, что память о них
прошла в далекие века, пирующий князь сделался идолом русского довольства
жизни... Это довольство привлекало в Киев и в Русскую землю с разных сторон
жителей. Население Киева и Русской земли не было однородное: тут были и греки,
и варяги, шведы и датчане, и поляки, и печенеги, и немцы, и жиды, и болгары”
[67; 22-23]. Даже, как отмечает Е.В. Аничков, “христианство не
противопоставляло пирам. Их надо было либо признать, либо оспаривать. Возможно,
было лишь первое, а отсюда
-– компромисс,
т.е. упорядочивание, превращение пира из языческого, требного, с моленным
брашном в трапезу или “законный обед”, причем светское, дружинно-бытовое
значение пира остается, конечно, без перемены” [5; 189]. Былины киевского цикла
наполнены пирами. С описания пира начинаются многие былины, конфликты
завязываются и разрешаются также во время пира.
Княжеско-дружинная субкультура формировалась на основе языческой культуры
восточных славян посредством трансформации ее ценностно-мыслительного ядра.
Поэтому фундаментальная структура доминирующих тем (“натуры”, “божественного”,
“вольницы”, “физической силы”, “рода”, “эроса”) духовной культуры древних
славян в несколько “переосмысленном” виде составили ценностно-мыслительное ядро
княжеско-дружинной субкультуры, в состав которого вошли также
новообразовавшиеся темы “добычи” и “Русской земли”. В чем выражалась смысловая
трансформация доминирующих тем княжеско-дружинной субкультуры?
Тема “натуры”
Тема “натуры” в княжеско-дружинно
м натуралистическом “
жизненном мире”
природа рассматривается исключительно как объект потребления, добычи,
получаемой в результате захватнических походов, сбора дани или охоты, а также
как объект купли –
продажи (меха, воск, мед, зерно и др.). Оторванность от земли и природы
усиливает ощущение паразитизма культуры. Примечательно, что в былинах,
выражающих преимущественно дружинное мировосприятие, поссорившиеся с князем
Владимиром русские богатыри останавливаются не у себя в имении, а в поле в
шатре. Образ шатра точно отражает настроение праздности, временщика,
неукорененности бояр и дружинников. В.О. Ключевский отмечает, “что боярское
землевладение развивалось слабо, не составляло главного экономического интереса
для служилых людей. Дружинники предпочитали другие источники дохода, продолжали
принимать деятельное участие в торговых оборотах и получали от своих князей
денежное жалование.... служилый человек не привязывался крепко ни к месту
службы, ни к лицу или семье князя, которому служил“ [62; 1; 206].
Тема “натуры” имеет и более широкий аспект. Она выступает, как и в языческой
славянской культуре, как принцип всеобще натуралистического восприятия
действительности. Ментальное пространство княжеско-дружинной субкультуры
также пропитали натуралистические ценностно-мыслительные ориентации. Князья и
дружинники вплоть до конца X в. оставались язычниками, не ведающими о
существовании духовной, ненатуралистической реальности.
Тема “эроса”
Тема “эроса“. В силу
оторванности от природы князей, дружинников ослабевает ощущение ее универсально
порождающей способности. В духовном пространстве княжеско-дружинной субкультуры
тема “эроса“ как бы теряет свой неукротимый энергетический потенциал, сфера ее
воздействия сужается до беспорядочных отношений с женщинами в разгульной жизни
ее представителей. Таким образом, тема “эроса” практически лишается статуса
доминирующей темы как универсалии ценностно-мыслительного пространства
княжеско-дружинной субкультуры.
Тема “рода”
Тема “рода” также теряет
свою сакрально-натуралистически-эротическую природу. Становление слоя
дружинников, основным принципом формирования которого являлись физическая сила
и воинские доблести, бурный рост городов и городского населения в Х веке
существенно подрывали, с одной стороны,
сложившиеся кровно-родственные отношения
. которые утрачивали
значимость универсального принципа упорядочивания действительности (как
природной, так и социальной), а также лишались ореола сакральности.
Вместе с тем, “родовое мышление” продолжало сохранять свое существенное влияние,
препятствуя развитию социально-политических отношений в Киевской Руси.
Отношения между князьями на протяжении всего существования Киевского
государства рассматривались через призму родовых отношений. С.М. Соловьев
пишет: “Князья не теряют понятия о единстве, нераздельности своего рода; это
единство, нераздельность выражались тем, что все князья имели одного старшего
князя, которым был всегда старший в целом роде, следовательно, каждый член рода
в свою очередь мог получать старшинство, не остававшееся исключительно ни в
одной линии. Таким образом, род князей русских, несмотря на все свое
разветвление, продолжал представлять одну семью
-– отца с
детьми, внуками и т.д.” [150; 1; 334]. “Волости находятся в совершенной
независимости одна от другой и от Киева, являются отдельными землями и в то же
время составляют одно нераздельное целое вследствие родовых княжеских
отношений, вследствие того, что князья считают всю землю своею отчиною,
нераздельным владением целого рода своего” [150; 1; 339].
Тема “физической силы”
Тема “физической силы” занимает центральное положение в ценностном пространстве
княжеско-дружинной субкультуры. “Культ силы” в ней получает дальнейшее
развитие. Сила и разбой становятся законом
культуры. При характеристике князей и дружины летописец непременно
рассматривает их со стороны физической силы и храбрости. Особенно ярким был
создан образ князя Святослава, который, когда вырос и возмужал, начал набирать
воинов многих и храбрых, ходил легко, как барс, много воевал. Богатырским
строением отличался сын Владимира Мстислав, который в поединке одолевает
касожского князя, силача Редедю. По этому поводу С.М. Соловьев справедливо
отмечает: “...м
Мы видим повсюду проявления материальной силы, ей первое место, ей почет
от князя до простолюдина; чрез нее простолюдин может сделаться великим мужем,
как сделался Ян Усмошвец, она – верное средство для приобретения славы и
добычи. При господстве материальной силы, при необузданности страстей, при
стремлении юного общества к расширению, при жизни в постоянной борьбе, в
постоянном употреблении материальной силы нравы не могли быть мягки; когда
силою можно взять все, когда право силы есть высшее право, то, конечно, сильный
не будет сдерживаться перед слабым. “С дружиной приобрету, серебро и золото”,
-– говорит
Владимир и тем указывает на главное, важнейшее средство к приобретению серебра
и золота; они приобретались оружием, приобретались сильным за счет слабого”
[150; 1; 236]. Один из наиболее христианизированных князей Владимир Мономах о
себе говорит: “...р
Разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура
метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один
ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь у меня с бедра меч сорвал, медведь
мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною
опрокинул, и бог сохранил меня невредимым” [56; 136].
Битвы и сражения становятся будничным явлением в хищническом, агрессивном
образе жизни княжеского воинства. В своем “Поучении...” Владимир Мономах
вспоминает, что только больших походов он совершил 83, “...а остальных и не
упомню меньших” [56; 136]. Если допустить, что из 72-х прожитых лет до 50-ти
приходится на период активных военных действий, то княжеская жизнь
действительно приобретает походный характер.
Примечательно, что в былинном эпосе “физическая сила” воинов-богатырей носит
абсолютно разрушительный характер
. в отличие от
подвигов героев греческой мифологии. Мне не удалось отыскать ни одного
примера, когда бы “физическая сила” богатыря была направлена на созидание. При
встрече богатыри сначала меряются силами (чаще всего бьют палицей по голове), а
затем знакомятся. Когда же богатырь в гневе или во хмелю, то буйство физической
силы становится особенно разрушительным. Наиболее показательным примером может
служить поведение Ильи Муромца в былине “Илья в ссоре с Владимиром”, когда
“раззадорился он да разретивился” из-за того, что князь Владимир забыл его
пригласить на пир.
“Тут-то сам Ильюшенька раздумался:
“А что мне, молодцу, буде поделати?
А я ныне молодец разгневанный,
А я ныне молодец раздраженный”.
Как он-то за тем тут повыдумал,
Стрелил-то он по божьим церквам,
По тем стрелил по чудным крестам,
По тем золоченым по маковкам.
Упали маковки на сыру землю” [21; 146].
Казалось бы, вышесказанному противоречит былина “Вольга и Микула”, в которой
создан красивый поэтический образ пашущего землю в чистом поле Микулы
Селяниновича. Былина “Вольга и Микула” отражает раннюю стадию взаимодействия
двух субкультур: целостной славянской языческой культуры, в которой
“физическая сила” носит жизнеутверждающий, созидательно преобразующий
характер, и княжеско-дружинной, которая формировалась в значительной степени
за счет отбора силачей среди славян-крестьян.
Удивительный образ единства пространственной шири, свободы и физической мощи
найден в этой былине:
“Повыехали в раздольице чисто поле,
Услыхали во чистом поле оратая.
Как орет в поле оратай посвистывает,
Сошка у оратая поскрипывает,
Омешики по камешкам почиркивают.
Ехали-то день ведь с утра до вечера,
Не могли до оратая доехати.
Тут ехали они третий день,
А третий день еще до пабедья,
Наехали в чистом поле оратая” [21; 42]
До середины XI в. сильной великокняжеской власти удавалось держать под
контролем сконцентрированную в дружине большую энергию физической силы,
направляя ее на выбивание дани из подвластного населения и на внешние походы
за добычей, если не считать две усобицы, связанные с восхождением на киевский
престол Владимира и Ярослава.
Тема “вольности”
Тема “вольности”, ”вольницы” наряду с темами “добычи” и “физической силы”,
является как бы третьим энергетическим
эпицентром
княжеско-дружинного ценностно-мыслительного
поля
пространства
княжеско-дружинной
субкультуры. Слой дружинников составляли физически сильные люди,
объединенные страстью к добыче как средству в обеспечении разгульного,
вольного образа жизни. “Вольница” приняла действительно универсальный характер.
До середины XI в., до распада единого древнерусского государства объектом
потребления дружинников стала вся Русская земля. ”Вольница” приняла практически
безграничный характер. В западноевропейских государствах по мере развития
средневековой культуры набирал силу процесс правовой регуляции социальных
отношений. Каждая социальная группа, утверждая статуты и другие правовые акты,
стремилась к четкому закреплению своих прав как по отношению к другим
социальным слоям, так и внутри социальной группы каждого его члена. Таким
образом, расширяющаяся сеть законодательства прочно увязывала средневековое
общество Западной Европы в единый организм, в котором не было места стихии
вольницы и разгулу физической силы. Правда, в западноевропейском обществе была
проблема с обузданием своеволия высшей феодальной знати, но по мере становления
абсолютизма эти трудности в целом были преодолены. В Киевской Руси подобная
работа практически не велась, поэтому “дух вольницы” царил как в славянской,
так и в княжеско-дружинной субкультурах, выступал одной из важнейших
составляющий древнерусского языческого идеала. Образ “чистого поля” как
воплощения этого духа является, вероятно, наиболее часто употребляемым в
былинном эпосе. Все основные события в былинах происходят в “чистом поле”, как
бы на фоне необъятных просторов полной внутренней и внешней свободы.
Впоследствии по мере становления русской культуры эта тема будет задавлена,
вытеснена в коллективное бессознательное и останется в духовном пространстве в
виде архетипического образа, проникнутого ностальгическими переживаниями о
безвозвратно утраченной свободе.
На пути пересечения тем “вольницы” и “физической силы” возникают темы
“разбоя” и “бунта”. Тема “бунта” в последующем развертывании русской культуры
получит дальнейшее продолжение, в то время, как тема “физической силы” по
мере распространения христианства и государственности трансформируется в тему
мощи “Российского государства”.
Поэтизация темы “бунта-разбоя” нашла выражение в былине “Василий Буслаев и
новгородцы”:
“Поводился ведь Васька Буслаевич
Со пьяницы, со безумницы,
С веселыми удалыми добрыми молодцы,
До пьяна уже стал напиватися,
А и ходя в городе, уродует:
Которого возьмет он за руку, –
Из плеча тому руку выдернет;
Которого заденет за ногу, -–
То из гузна ногу выломит;
Которого хватит поперек хребта, -–
Тот кричит-ревет, окарач ползет” [137; 134].
Вольница во хмелю и диктат силы, ломающие все препятствия, превращаются в
немотивированную разрушительную силу. Поэтизация этого бессмысленного разбоя
– примечательная черта русской народной культуры. В былине эта тема доводится
до противопоставления всему Новгороду:
“Говорит тут Василий Буслаевич:
Гой еси вы, мужики новогородские!
Бьюсь с вами о велик заклад –
Напущаюсь я на весь Новгород битися, дратися
Со всею дружиною хороброю” [137; 136].
Опора на физическую силу, составляющая краеугольный камень “идеологии”
Василия Буслаева, высказывается в былине “Смерть Василия Буслаева”:
“Говорит тут Василий Буслаевич
“А не верую я, Васюнька, ни в сон ни в чох,
А и верую я в свой червленный вяз” [137; 142].
Нередко в литературе этот безудержный разбой истолковывается как форма
социального протеста против угнетения со стороны состоятельных людей
Новгорода. Такого рода истолкование имело бы смысл, если бы в былине
упоминалось о несправедливости власть имущих, притесняющих рядовых
новгородцев. Напротив, в былине ясно звучит антитрудовая тема:
“Кто хочет пить и есть из готового,
Валился к Ваське на широкий двор,
Тот пей и ешь готовое
И носи платье разноцветное” [137; 134].
Не отрицая существование острых социальных конфликтов в Киевской Руси,
периодически порождающих восстания-бунты в Новгороде, Киеве и др., необходимо
отметить и выделить тему “бунта-разбоя”, как специфическую тему русской
народной культуры, которая требует специального исследования.
Тема “божественного”
Придя на славянские земли, варяги приняли религиозные верования туземцев. В
летописи отмечается, что после заключения договора с Византией Олег давал
присягу по русскому закону: “...Клялись те своим оружием и Перуном, их богом, и
Волосом, богом скота, и утвердили мир” [104; 471]. При заключении аналогичного
договора Святослав сказал: ”Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного
раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от бога, в
которого веруем, -
– в Перуна и в Волоса, бога скота” [104; 87]. Они даже не ввели в
славянский языческий пантеон собственного бога, что было бы
, нетрудно сделать при аморфности славянских мифологических представлений
и их веротерпимости. Поэтому можно говорить о добровольном погружении
пришельцев в натуралистическое мифологическое пространство язычества восточных
славян, которое в целом существенно не отличалось от норманнского. Вместе с
тем, воинственный характер и образ жизни князей и дружинников
обязательно должен был трансформировать сложившиеся мифологические
представления в сторону выдвижения
??? на первый план богов, соответствовавших их “воинственной идеологии”,
например, бога Перуна, и уменьшения влияния богов, связанных с земледелием. В
языческой реформе Владимира это изменение было узаконено.
Тема "Русской земли"
Тема "Русской земли" возникает в
ментальном пространстве древнерусской культуры с образованием
княжеско-дружинного субпространства.
Поскольку княжеско-дружинная субкультура как бы вырастала из языческой культуры
восточных славян, надстраивалась над ней, то для неё характерны
ценностно-мыслительные ориентации внешнего наблюдателя по отношению к
последней. Эта своеобразная "метаустановка" княжеско-дружинной субкультуры
находит воплощение в теме "Русской земли”, содержание которой включает
совокупность подвластных земель с их природными богатствами и проживающего на
них населения в городах и поселках. "Русская земля" в IX
-–X вв.
рассматривалась как объект наживы, как объект потребления. Древнерусские
богатыри меньше всего выступают народными защитниками в борьбе с иноземными
завоевателями. Мотив охраны, безопасности и благополучия народа практически
отсутствует в былинном эпосе. Богатыри совершают свои подвиги "за веру
христианскую", "церкви соборные" и "князя Владимира". Поэтому, обороняя Русскую
землю, князья и дружинники защищали прежде всего свою коллективную
собственность, своё безраздельное право добычи на территории, обозначенно
й словом "Русская земля". Было бы очевидной модернизацией рассматривать
употребление понятия “Русская земля” в IX –X вв. как синоним государственного
образования или древнерусского этноса. Конкретно-исторический материал дает
возможность говорить лишь об элементах "государственного мышления” вплоть до
распада Киевской Руси. Нет оснований также утверждать о преодолении племенного
партикуляризма, о появлении представлений о единстве древнерусского народа с
формированием тонкого слоя княжеско-дружинной субкультуры. В летописях всегда
тщательно перечисляется состав войска, где наряду с этническими образованиями
(черные клобуки, вятичи и т.д.) употребляются территориальные
, в смысле этнических (киевляне, новгородцы и др.). Это также
свидетельствует о преобладании партикуляристских представлений. Преобладает
натуралистическое истолкование понятия “Русская земля” как совокупности
материальных ценностей. Поэтому
, представляется,
нельзя рассматривать слово "Русская земля" в качестве аналога государства или
древнерусской народности. Следует заметить, что содержательный анализ
становления и развития ФТС княжеско-дружинного
субпространства культуры ограничивается IX
-– Х вв.
Принятие христианства и рост феодальной раздробленности в Киевской Руси
приведут к существенной перестройке ФТС и ценностно-тематического пространства
в целом и славянской языческой, княжеско-дружинной субкультур
, в частности.
Поэтому тема “Русской земли” и другие доминирующие темы княжеско-дружинной
субкультуры претерпят значительные измерения, конкретный анализ которых будет
проведен в следующих параграфах.
Натуралистический "русоцентризм"
Формирование княжеско-дружинного субпространства привело к возникновению
примечательной направленности древнерусского духа, который можно было назвать
“варварскими амбициями” или “натуралистическим русоцентризмом". Успехи первых
киевских князей (Олега, Игоря, Святослава) в приобретении власти над многими
народами на огромной территории и создании государства Киевская Русь, а также
внешние походы против одного из самых сильных государств того периода –
Византии способствовали появлению представлений о своей непобедимости,
несокрушимости своей военной и физической мощи. Поскольку до принятия
христианства древнерусское общество и государство оставались варварскими,
амбициозные притязания «натуралистического русоцентризма» оставались
варварскими потугами. Гордыня о своей избранности значительно укрепилась и
распространилась после успешных походов на Византию Олега и Святослава. Лев
Диакон удачно передаёт в речах Святослава его высокомерные амбиции, когда на
дипломатично-примирительные предложения византийского императора Иоана Цимисхия
он ответил, как пишет Диакон, «надменно и дерзко: «Я уйду из этой богатой
страны не раньше, чем получу большую денежную дань и выкуп за все захваченные
мною в ходе войны города и за всех пленных. Если же ромеи не захотят заплатить
то, что я требую, пусть тотчас же покинут Европу, на которую они не имеют
права, и убираются в Азию, а иначе пусть и не надеются на заключение мира с
тавроскифами» [75; 56]. На другое послание византийского императора Святослав,
пишет Диакон, охваченный варварским бешенством и безумием, подал такой ответ:
“Я не вижу никакой необходимости для императора ромеев спешить к нам; пусть он
не изнуряет свои силы на путешествие в сию страну – мы сами разобьем вскоре
свои шатры у ворот Византия, возведём вокруг города крепкие заслоны, а если он
выйдет к нам, если решится противостоять такой беде, мы храбро встретим его и
покажем ему на деле, что мы не какие-нибудь ремесленники, добывающие средства к
жизни трудами рук своих, а мужи крови, которые оружием побеждают врага. Зря он
по неразумию своему принимает росов за изнеженных баб и тщится запугать нас
подобными угрозами, как грудных младенцев, которых стращают различными
пугалами» [75; 57]. Правда, выражение "мужи крови" из второй книги Царств (XVI,
7-
–8) свидетельствует о том, что Диакон вольно пересказывает речь
Святослава, поскольку трудно предположить, чтобы язычник употребил эту фразу,
хотя она, безусловно, очень точно характеризует росов.
Варварское высокомерие, хитрость, коварство определяет поведение княгини
Ольги в Константинополе при встречах с византийским императором Константином
XII при совершении обряда крещения. Из слов летописца можно заключить, что
княгиню Ольгу принимали очень доброжелательно, как далеко не каждого
правителя варварского государства.
Перед отъездом княгини Ольги император Константин "дал ей многие дары:
золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные; отпустил её, назвав своей
дочерью”. Когда же Ольга приехала в Киев, “и прислал к ней греческий царь
послов со словами :"Много даров я дал тебе. Ты ведь говорила мне: когда-де
возвращусь в Русь, много даров пришлю тебе: челядь, воск, и меха, и воинов в
помощь". Отвечала Ольга через послов: “Если ты также постоишь у меня в Почайне,
как я в Суду, то тогда дам тебе”. И отпустила послов с этими словами” [104;
77]. Так Ольга "отблагодарила" за великую услугу, которая ей была оказана в
деле принятия христианства по самому высокому разряду.
Очевидно, что описание летописца поездки княгини Ольги в Константинополь весьма
далеко от действительного воспроизведения событий. Сватовство императора
Константина VII является легендой. Однако, подходы и оценки подобного рода
фрагментов (всякого культурно-исторического источника) историка и культуролога
существенно различаются, потому что они отличны целями и задачами исследования.
Если для историка главной задачей является конкретное, максимально полное
воспроизведение какого-либо исторического явления (например, поездки княгини
Ольги в Константинополь), используя все возможные методы исторического
исследования, то с точки зрения тематического анализа в качестве главной
задачи выступает проблема реконструкции
духовного ментального
пространства культуры на определенном этапе её развития. Поэтому если для
историка отрывок из летописи о поездке княгини Ольги в Константинополь требует
существенных уточнений, исправлений, дополнений, то для культуролога этот
фрагмент обладает большой
культурологической
ценностью достоверного факта
, поскольку непосредственно воспроизводит ценностно-мыслительные ориентации
ментальной культуры
людей исследуемой эпохи. Примечательно, чем больше имеет место умышленная
или бессознательная деформация в описании конкретно-исторического события, тем
в более явном виде выступают ценностно-мыслительные приоритеты автора. А
поскольку в эпоху Киевской Руси индивидуальное начало было слабо развито, то с
большим основанием можно допускать проявление ценностных установок
тематического пространства культуры.
“Русоцентристские”
притязания носили натуралистический характер, потому что княжеско-дружинная
субкультура не привнесла представлений о высших духовных ценностях. Жёсткая
языческая натуралистическая оценка определяла осмысление окружающей
действительности. Не осознание себя как высшего духовного существа, а,
напротив, самооценка с точки зрения физической силы определяет “русоцентрист
ские” ориентации. Византийцы однозначно и вполне справедливо рассматривали
росов (или "тавроскифов") как варваров, т.е. как народ, еще не прикоснувшийся к
высокой, облагораживающей культуре. Михаил Пселл, будучи свидетелем разгрома
флота росов у стен Константинополя в 1043 г., отмечает агрессивность росов по
отношению к Византии: “Это варварское племя все время кипит злобой и ненавистью
к Ромейской державе и, непрерывно придумывая то одно, то другое, ищет предлога
для войны с нами” [92; 95]. Культурологическая оценка замечания Пселла означает
враждебность, неприятие более высокой Византийской культуры из-за своих
варварских амбиций. Таким образом, представляется необходимым зафиксировать
появление в княжеско-дружинной и в целом в древнерусской культуре
“натуралистически-русоцентрис
тскую” направленность духа, чтобы впоследствии проследить его смысловую
эволюцию по мере становления и развития российской культуры.
“Негативная эвристика”
“Негативную эвристику” княжеско-дружинной субкультуры так же, как и языческой
культуры восточных славян, составляют:
практически полное
отсутствие архетипа
хомоцентризма как совокупности эгоцентристских ценностно-мыслительных
ориентациейотсутствие
осознания "Я" человека как специфической духовной реальности; "рефлективности"
как деятельности по самоосмыслению, самоконструированию культуры; высокого
авторитета темы "разума", наличие которой в духовной культуре является
внешним показателем её развитости.
Безусловно, объем “негативной эвристики” княжеско-дружинной субкультуры мог бы
быть значительно расширен. Моя задача ограничивается демонстрацией
необходимости выделения "негативной эвристики" и её важной роли в
культурологическом анализе. Поэтому я останавливаюсь лишь на наиболее важных
особенностях древнерусской духовной культуры, отличающих её от развитых мировых
цивилизаций.
Формирование княжеско-дружинной субкультуры не привело к развитию
индивидуального, духовного начала в человеке. В ней также отсутствовало
представление о ценности человеческой личности как духовного, неприродного
существа. В Киевской Руси IX
-– Х веков
преобладало натуралистическое отношение к человеку как существу физическому,
материальному. По мнению В.О. Ключевского: “.
Имущество человека в Правде ценится не дешевле, а даже дороже самого
человека, его здоровья, личной безопасности. Произведение труда для закона
важнее живого орудия труда – рабочей силы человека. .
Безопасность капитала закон ценил дороже и обеспечивал заботливее личной
свободы человека. Личность человека рассматривается как простая ценность и идет
взамен имущества” [62; 249]. Владимир Мономах о себе говорил: "И с коня много
падал, голову себе дважды разбивал, и руки и ноги свои повреждал – в юности
своей повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей” [56; 163].
В отличие от западноевропейской культуры, в которой рыцарство, углубленный
анализ внутреннего мира человека в христианской религиозной и художественной
литературе и др. способствовали нарастанию индивидуалистических процессов, в
древнерусской культуре в ІХ
-–Х вв. в целом
практически отсутствовал интерес к субъективному миру человека, сама
рефлексивная установка, что нашло выражение в отсутствии рыцарства и лирической
литературы, и в частности
любовной лирики. В русском героическом эпосе очень слабо звучит мотив борьбы за
спасение, освобождение отдельного человека. Между тем, одной из главных целей
рыцарского движения в Западной Европе была защита слабых и обездоленных,
несчастных и потерпевших от властолюбия и корысти сильных. В клятве рыцаря
после заш
щиты веры и религии, короля и отечества третьим пунктом стоит: "Щит
рыцарей должен быть прибежищем слабого и угнетенного; мужество рыцарей должно
поддерживать всегда и во всем правое дело того, кто к ним обратится" [136; 54].
Одной из главных задач странствующих рыцарей была защита угнетенных и
несчастных, наказания насилия и несправедливости. Былинные же богатыри
сражаются с чудовищами (змеем, Идолищем, Соловьем-разбойником), обладающими
большой физической силой, татарами и побеждают их, благодаря преимуществу в
физической мощи, но в этой борьбе гуманизм богатырей носит абстрактный характер
, даже когда он спасает царевну. В их подвигах больше выражены их
стремление служению князю и преодоление злой силы, чем спасение конкретных
людей.
В древнерусской культуре (как в языческой славянской, так и в
княжеско-дружинной) не звучит тема разума, “высокого” авторитета мудрости, в то
время, как в наиболее
развитых мировых цивилизациях уважение и преклонение перед мудростью уходит в
глубокую древность. В
"Илиаде" и "Одиссее" Гомера тема "разума", "разумной человеческой деятельности"
выступает в качестве одного из главных достоинств человека. В
древнерусской литературе мудрость, знание, разум выступают не в чистом виде, а
в значительной степени с налетом ведовства, магии, волхования. Основатель
государства Киевская Русь Олег называется вещим. Традиционно мудрой
правительницей считается княгиня Ольга. Однако "мудрость" её заключается в
хитрости, коварстве, неверности слову, т.е. в «добродетелях» варварского,
языческого порядка, которые
в устах уже христиански мыслящи
ех писател
и продолжают рассматривать
ся в качестве высоких достоинств.
Как и языческая славянская, княжеско-дружинная
представляет собой субкультур
уы, духовная
реальность которой
ых ограничивалась наличным бытием. Если в западноевропейской культуре в Х
-–XI вв.
,
разворачивается “рефлексивная” деятельность по ее самоосмыслению, преодолению
варварства, творению более совершенной, возвышенной духовной реальности, то в
древнерусской культуре подобного рода процессы практически не просматриваются.
Однотипность языческой славянской и княжеско-дружинной субкультур определяется
их “экзистенциальным” характером. Однако различие между ними выражалось не
только в построении тематического пространства, но лежало гораздо глубже.
Славянская языческая -
– это земледельческая культура, “привязанная” к земле, “погруженная" в
природу. Княжеско-дружинная
-– это
субкультура воинов-торговцев и по существу паразитическая культура. Рост
благосостояния князей, бояр, дружинников происходит преимущественно за счет
усиления эксплуатации, ограбления зависимого и свободного населения крестьян. В
силу оторванности от земли, равнодушия к её благоустройству княжеско-дружинная
субкультура открывала ограниченные перспективы материального, социального и
культурного развития Древнерусского государства. Деятельность управления
выражалась преимущественно в совершенствовании социального механизма выбивания
дани. Защита от внешних врагов преследовала цель не столько охраны славянского
населения, сколько обороны земель, с которых князья и дружинники кормились.
Таким образом, менталь
ное пространство древнерусской культуры к концу Х в. представляло собой сложное
образование, состоящее из двух субпространственных конфигураций, частично
налагающихся конструкций и частично разорванных ценностно-мыслительных систем,
земледельческой языческой славянской и княжеско-дружинной субкультур. К
сожалению, формирование княжеско-дружинной субкультуры как культуры элитарной
не привело к духовному всплеску. Напротив, языческий натурализм получил
дальнейшее развитие, стал более чувственно насыщенным и многообразным. В
княжеско-боярской элите проявилась не столько созидательно-продуктивная,
сколько потребительско-разрушительная способность. Изменени
яе в
тематическом пространстве происходили в рамках языческих,
натуралистических ценностно-мыслительных ориентаций. Универсалиями,
окрашивающими все духовное пространство
, являлись темы "добычи", "натуры ",
" вольности"
,
"рода",
"князя" и "физической силы". Поэтому в структуре объяснения духовных
процессов в древнерусской культуре IX
-– Х вв. в
объясняющей части (“экспланансе”) следует использовать эти
четыре темы в функции законов (в противном случае объяснение будет
неполным), при
необходимости дополняя объяснение темами "Русская земля", "рода" и др.
Существенную роль в преодолении варварства германских племен в Западной Европе
сыграло внешнее воздействие античной культуры. Относительная обособленность
территории Киевской Руси, агрессивность и “натуралистический русоцентризм”
древнерусской культуры препятствовали расширению культурных связей с Византией
и Западной Европой, включению её в единый европейский культуро-творческий
процесс.
Необходимо обратить также внимание на то, что исследование становления и
развития древнерусской культуры до XI в. не дает оснований для утверждения
существования белорусской, украинской и русской культур как специфических
ценностно-мыслительных реальностей. Фундаментальным, исходным, определяющим
критерием существования некоторой культуры является наличие специфической
ценностно-тематической реальности (“духа” культуры). Язык народа, этнос как
выражение органического единства народа являются сопутствующими, но все-таки
вторичными образованиями
, потому что при отсутствии специфической ментальной реальности существование
языка как ее отражения и этноса невозможно. Поэтому можно утверждать, что
выделение этих культур не представляется возможным. Следовательно,
существование их не имело места, впрочем, также, как и языка, и этносов.
Между тем, утверждение существования древнерусской культуры, состоящей из
земледельческой языческой славянской и княжеско-дружинной субкультур, не дает
оснований для утверждения существования и древнерусской народности.
Преимущественно натуралистическое, “племенное" мышление доминировало на
протяжении всей истории Киевской Руси, на огромных пространствах которой жило
множество народов. Возникновение Киевского государства существенно не изменило
их жизнь. Племенные образования стали землями, но в основе своей племенная
самоидентификация оставалась прежней. Даже разноплеменной народ Переяславской
земли, вероятно, осознавал себя переясловцами или более того, представителями
того или иного города или населенного пункта. Тонкий слой князей, бояр,
дружинников представлял собой в большой степени замкнутое образование, в
значительной степени был оторван от местного населения. Поскольку
централизующая, интегрирующая государственная деятельность этого слоя была
невелика (фактически сводилась к получению дани), то о возникновении духовного
единства говорить не приходится. Нельзя смешивать единство уровня
существования, анализ которого был осуществлен, и единства самосознания,
сознания "Мы". Сознания "Мы"
-– росы как
совокупность всех народов Киевской Руси, безусловно, не было. Разве что
спорадически, во время походов на Византию росы были объедены единым духом.
Поэтому в этом смысле и распадаться было нечему. Было стойкое сознание "Мы"
-– киевляне,
черниговцы, новгородцы, полочане, владимирцы, галичане и т.д. При отсутствии
письменности следует иметь в виду условность употребления слов
осочетанияа
"древнерусский язык". Этим слово
сочетанием обозначается язык не единого народа, а множества племен,
сохранивший в языке, образе жизни родство от праславянского единства.
-–Х вв. выходит
за границы Киевского государства. В развитом полиэтническом государстве
возникает надэтнический уровень единства: в Римской империи – римляне, в
Византии – ромеи, в СССР – советский народ. При этом сохраняется этнический
уровень сознания (у римских и византийских историков он прослеживается очень
четко). В аморфном, варварском государстве Киевской Руси надэтнический уровень
не образовался вообще. Поэтому нет необходимости и нецелесообразно
его использовать в анализе
термина
“древнерусская народность”, что было бы, в противном случае, очевидной
модернизацией.
Таким образом, приход варягов на Русь и социально-экономическая дифференциация
древнерусского общества привели к формированию сословия дружинников, а в
ментальном плане -
– княжеско-дружинного
субпространства,
которая существенно не отличалась своей ценностно-тематической структурой и
возникла посредством трансформации ФТС языческой восточнославянской культуры.
Образовалось две генетически и тематически связанные ментальные
субпространственные конфигурации, имеющие общий ценностно-тематический центр
(ФТС).
Древнерусская культура, состоящая из земледельческой языческой славянской и
княжеско-дружинной субкультур, накануне принятия христианства оставалась
языческой, варварской культурой, духовное пространство которой ограничивалось
натуралистическими ценностями. “Экзистенциальный” способ функционирования
культур препятствовал возникновению профессиональной культуры, формирующей
"рефлексивную” установку и, таким образом, выводящей за пределы наличного
бытия в область "чистого духа", конструирования многослойной ценностно-
мыслительные реальности и т.д.
§4.Христианская ментальная революция в культуре
Киевской Руси в XI в.
Крещение Киевской Руси князем Владимиром положило начало формированию
специфической ценностно-тематической системы, которую будем называть
христианской субкультурой.
Несмотря на единодушно высокую оценку значимости этого события в становлении
древнерусской культуры в обширной литературе, на наш взгляд, должного
философского и культурологического осмысления оно еще не получило. Отнесение
появления первых христиан на территории Киевской Руси к более ранним периодам
(крещению Аскольда и Дира или даже к первым векам новой эры в Крыму) так или
иначе смазывает поворотное значение принятия христианства на Руси на рубеже
первого и второго тысячелетий.
Появление христианской субпространственной конфигурации в недрах самодовлеющего
языческого ценностно-мыслительного пространства и быстрое её расширение в
первой половине XI в. (рост христианских общин, количества монахов и
монастырей, церковное строительство и т.д.) было подобно вспышке сверхновой
звезды на темном языческом небосклоне, которая взорвала устоявшиеся структуры
натуралистически-мифологического духа.
Этот процесс, вероятно, можно было бы эффективно описать в терминах теории
“катастроф”. Суть этого глубо
кого духовного переворота заключается в разрушении синкретического
натуралистически-мифологического единства языческого пространства древнерусской
культуры, в открытии восхитившей прозелитов, чисто духовной божественной
реальности (Троица, Царство небесное и т.д.) и творении ценностно-мыслительного
пространства на другой фундаментальной онтологической основе: сознании
несовместимости и противостоянии, прежде всего, двух реальностей, высшей,
духовной, божественной и низшей, материальной, тварной, поскольку своеобразие
субъективной реальности в XI
-– XII вв. ещё в
полной мере не осознавалось. Вероятно, учение о чисто
духовном божественном мире производило одно из самых сильных впечатлений
на язычников. Выслушав проповеди представителей различных религий, князь
Владимир,
в частности
, заметил боярам: “Мудро говорят они, и чудно слушать их, и каждому любо
их послушать, рассказывают они и о другом свете.” [104; 123].
Разложение неразрывного онтолического единства мифологического сознания положило
начало осознанию трех онтологических реальностей: божественной, материальной и
индивидуально-психической, которые, отражаясь в ментальном пространстве
культуры, я называю архетипами религиозности, натурализма и хомоцентризма.
Разделение универсума на два мира, чувственный и сверхчувственный, стало
наиболее фундаментальной и всеобщей характеристикой средневекового
мировосприятия в эпоху Киевской Руси. Митрополит Киевский Никифор в “Послании”
к Владимиру Мономаху пишет: “От того двойственно бытие наше: разумное и
неразумное /”словесное и бессловесное”/, и духовное /"бесплотное"/
, и телесное. Ведь разумное и духовное
-– это нечто
божественное и чудное, подобное бесплотному естеству, а неразумное
-– подобно
страстному и сластолюбивому. И поэтому борьбы в нас много, и противится плоть
духу, а дух плоти" [54; 172]. Во всех текстах без исключения этого периода
трансцендентный, божественный мир выступает средством объяснения происходящих
природных и социальных событий, законообразной посылкой ("экспланансом") в
структуре объяснения. "Размышляй, милый, размышлять надлежит и знать,
-– пишет в своем
"Послании" Климент Смолятич,
-– как все
существует, и управляется, и совершенствуется силой божьей: никакой нет силы,
кроме силы божьей, никакой нет помощи, кроме помощи божьей, ибо все, как
сказано, что пожелал он, все создал на небесах, и на земле, и в море, во всех
безднах,
и прочее" [105; 289]. Владимир Мономах в своем "Поучении" замечает: "Господь наш
не человек, но бог всей вселенной,
-– что захочет,
во мгновение ока все сотворит." [104; 411]. Чувственный мир теряет всякую
самостоятельность. Так, все победы и поражения в битвах объясняются только
божественной причиной. "В том же году,
-– читаем в
Ипатьевской летописи, -
– побудил бог Святослава, князя Киевского
, и великого
князя Рюрика Ростиславича пойти войной на половцев
.. А половцы, увидев отряд Владимира, смело идущий им навстречу,
побежали, гонимые гневом божьим и святой богородицы
. А.. А великий
князь Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславович, получив от бога победу над
погаными, возвратились по домам со славой и честью великой" [104; 347].
Объясняя нашествие половцев, летописец поучает: "Это бог напустил на нас
поганых, не их милуя, а нас наказывая, чтобы мы воздержались от злых дел
. Ч.. Через
нашествие поганых и мучения от них познаем владыку, которого мы прогневали:
прославлены были -
– и не прославили его, чествуемы были
-– и не почитали
его, просвещали нас -
– и не уразумели, наняты были
-– и не
поработали, родились -
– и не усовестились его как отца, согрешили
-– и наказаны
теперь. Как поступили, так и страдаем: города все опустели; села опустели;
пройдем через поля, где паслись стада коней, овцы и волы, и все бесплодным ныне
увидим; нивы заросшие стали жилищем зверям. Но надеемся все же на милость
божью; наказывает нас хорошо благой владыка." [104; 233–235]. Подобного рода
цитирование можно было бы продолжать бесконечно.
Божественный мир
Сверхчувственный мир в представлении древнерусских людей выступает как сложное,
многослойное, динамичное образование
-– источник
добра и зла,
и состоит из божественного и дьявольского миров. Самым сокровенным, чистым,
абсолютно трансцендентным уровнем духовности является Бог (Отец, Сын, и Святой
Дух). Другой слой составляют образы совершенной чистоты и духовности, которые
являются в зримом облике в видениях, снах людей (ангелы, богородица, Иисус
Христос в облике, доступном для восприятия). Они непосредственно определяют все
позитивные процессы в окружающем мире и служат важнейшим источником
добродетели, а также средством наказания за грехи. К третьему уровню
божественного мира следует отнести людей
-р
_ рыцарей Духа, ставших образцами служения (святых, мучеников), которые
также принимают активное участие в распространении добродетели. "Святослав же и
великий князь Рюрик одержали победу по молитвам святых мучеников Бориса и Глеба
и пошли каждый восвояси, славя бога в троице
-– отца
, и сына, и
святого духа" [105; 351]. В "Киево-Печерском патерике" приводится следующая
история. Совсем здоровый,
внезапно умирает монах, который притворялся постником и целомудренником, а сам
втайне ел и пил и жил распутно. Его тело, из которого исходил большой смрад,
положили в пещеру. "И явился святой Антоний пресвитеру Онисифору, с гневом
говоря ему: "Что это ты сделал? Такого скверного, и порочного, и лживого, и
многогрешного здесь положил, какого еще никогда не было положено, так что
осквернил он святое место сие". Очнувшись от видения и пав ниц, Онисифор
взмолился богу, говоря: "Господи! Зачем скрыл ты от меня дела человека этого?"
И приступил к нему ангел, и сказал: "В назидание всем согрешающим и не
покаявшимся было это, чтобы видевши, покаялись". И сказав сие, сделался
невидимым" [105; 487]. Ангелы могут являться в образе праведника. В "Житии
Феодосия Печерского" в предсмертный час монаха Дамиана ему является ангел в
образе Феодосия и обещает исполнение его молитв [104; 353]. Ангел может карать
строптивых. Когда монах отказался
примиритсяпримириться
с другим монахом, то ангел ударил его пламенным копьем, и тот упал мертвым.
Можно выделить еще одну подсистему Царства Небесного – рай, который
составляют души праведников. Однако поскольку эта подсистема выступает в
качестве абсолютной цели и лишена функции источника добродетели, то её
расположение в иерархии духовности представляется затруднительным.
Мир Сатаны
Исключительно важный мир образуют Сатана или дьявол, бесы, черти, которые
являются единственным источником зла. Своеобразие этого мира заключается в
том, что он не может быть отнесен ни к материальному миру, поскольку носит
сверхчувственный характер, ни к божественному, поскольку выступает
воплощением чувственности, натурализма. Дьявол или Сатана правит "царством
Зла", служит первопричиной всего злого, безнравственного, низкого в мире.
Поэтому Сатана как принцип абсолютного зла служит универсальной посылкой в
объяснении всех негативных процессов в мире. Сатана (дьявол) как падший ангел
обладает огромной сверхъестественной ангельской силой воздействия и мощью,
которая, однако, (поскольку он "падший") имеет абсолютно отрицательную
направленность. Сатана (дьявол) неязыческого, а чисто христианского
происхождения. Бесы представляют собой народ многоликий и более добродушный.
Они образуют как бы второй слой "царства Зла", подчиненный Сатане (дьяволу),
хотя нередко именуются Сатаной, дьяволом, т.е. употребляются как синонимы.
Если дьявол чаще всего выступает причиной объективных, надличностных, наиболее
злых и опасных, приносящих большой материальный и духовный ущерб, событий, то
бесы большей частью выполняют функции устрашения, искушения конкретного
человека. Они более тесно связаны с индивидуально-психической реальностью,
внутренним миром человека и непосредственно на него воздействуют. С точки
зрения современного психоанализа
, бесы и вся их деятельность могут быть объяснены как порождение
бессознательных стремлений. В Древней Руси они, безусловно, рассматривались как
внеличностные человеку образования. Происхождение их объясняется дальнейшей
деградацией языческих богов после принятия христианства. "Бесы же, не стерпев
обиды, -
– читаем в "Киево-Печерском патерике",
-– что, некогда
почитаемые и ублажаемые неверными и признаваемые за богов, оказались они ныне у
угодников Христовых в пренебрежении, и уни
чижении, и бесчестье, и как рабы купленные
работают." [105; 581]. Поэтому бесы несут на себе печать языческих
мировосприятий. Однако бесы часто выступают в обозначенных выше функциях
дьявола и наоборот. Различие функций дьявола (Сатаны) и бесов можно привести
лишь в преобладающей тенденции, не строго однозначно. Мир дьявола и бесов
отличается также большим динамизмом. Своеобразную подсистему образует ад как
абсолютное дно, местоположение которого, как и рая в божественном мире, в
структуре "Царства Зла" весьма неопределенно.
Таким образом, сверхчувственный мир составляют высший божественный и низший
"дьявольский" миры. При этом абсолютное влияние первого нисколько не
ограничивается. Дьявольские и бесовские деяния осуществляются с "санкции" Бога,
в конечном итоге определяются Богом. "Видя дьявольскую силу и злобу беса на
нас", – пишет автор "Жития Авраамия Смоленского",
-– господь не
дал ему полной свободы, но допускает по своему усмотрению, чтобы мы соразмерно
нашей силе могли вступать с ним в борьбу, ибо господь сказал в Евангелии, что
сатана "не имеет власти даже над свиньями без божьего повеления"; пусть так
божьи рабы укрепляются" [105; 811].
Объективация субъективности
Разделение на мир сверхчувственный, определяющий и мир чувственный,
поддерживаемый и управляемый Богом, как известно, является исходной, всеобщей
мыслительной структурой европейского средневекового мышления в целом. Наиболее
примечательной и важной особенностью древнерусского мировосприятия после
принятия христианства стала глобальная объективизация субъективности, которая
привела к истолкованию всего разнообразия внутренних переживаний в образах
внешних, внеличностных, объективных. В текстах древнерусской литературы
внутренний мир человека оказывается полностью элиминированным, полем битвы
внеличностных объектов (чаще всего ангелов и бесов). Уникальность
древнерусского христианского духа в истории мировой культуры заключается в
осмыслении столь близкого, очевидного и понятного нам языка субъективных
чувств, страстей, переживаний в языке внеличностного порядка, в языке внешних,
сверхчувственного и материального, миров. Поэтому повествования христианских (и
не только христианских) деятелей Киевской Руси оказываются лишенными
субъективной составляющей, какими-то объективистскими, что при поверхностном
чтении создает впечатление упрощенности и даже примитивности внутренней жизни.
На наш взгляд, п П
оразительность этих текстов заключается в восприятии, осознании индивидуальных,
психических образов как внешних, самостоятельных объектов.
Наиболее богатый материал для культурологического анализа представляют, прежде
всего, "Киево-Печерский патерик", жития Феодосия Печерского и Авраамия
Смоленского, "Повесть временных лет", а также поучения деятелей церкви и др., в
которых раскрывается сложная, доходящая до крайнего внутреннего напряжения
духовная жизнь древнерусского монашества. Суровый аскетический образ жизни
(строгий пост, бдение, затворничество и т.д.), направленные на умерщвление
плоти, разрыв связей с внешним миром, приводили к взрывному обострению
внутренней жизни. Древнерусские же подвижники внутренние
эмоционально-психические, физиологические трудности выносили во внешний план и
таким образом
рассматривали имманентные коллизии духовного и плотского как борьбу внешних сил
ангелов и бесов.
В этом смысле показательна история монаха Киево-Печерского монастыря Арефы,
который в келье имел много богатства, но был очень скуп. Однажды ночью пришли
воры и украли все его богатство. Арефа очень жалел о потере золота, впал в
недуг лютый и уже при смерти, но и тут не унялся от роптания и хулы. Далее
приведем отрывок полностью: "Но господь, который всех хочет спасти, показал ему
пришествие ангелов и полки бесов, начал он взывать: "Господи, помилуй! Господи,
согрешил я, все твое, и я не жалуюсь". Избавившись же от болезни, рассказал он
нам, какое было ему явление. "Когда,
-– говорил он,
-– пришли
ангелы, то пришли также и бесы, и начали они спорить об украденном богатстве
моем, и сказали бесы: "Так как не обрадовался он, но возроптал, то теперь он
наш и нам предан". Ангелы же говорили мне: "О окаянный человек! Если бы ты
благодарил бога о своей потере, то вменилось бы тебе это, как Иову. Если кто
милостыню творит, -
– великое это дело перед богом, но творят по своей воле; если же кто за
взятое насилием благодарит бога, то это больше милостыни: дьявол, делая это,
хочет довести до хулы человека, а он все с благодарением предает господу,
-– так вот это
более милостыни". И вот, когда ангелы сказали мне это, я воскликнул: "Господи,
помилуй, господи, прости! Господи, согрешил я! Господи, все твое, а я не
жалуюсь". И тотчас бесы исчезли, и ангелы, возрадовавшись, вписали мне в
милостыню пропавшее серебро" [105; 511
-–513]. Как мы
видим, борьба в душе Арефы между сожалением об утраченном богатстве,
привязывавшем к мирскому, и стремлением к духовному спасению воспроизводится
как спор ангелов и бесов, а в завершении акцент делается не на внутреннем
примирении в предсмертном состоянии, а на исчезновении бесов и ангелов после
его покаяния, которое в контексте носит формальный характер признания своей
вины, хотя в этих коротких фразах выражается крик души измученного человека.
Противостояние плотского и духовного сопровождает людей на протяжении всей
жизни, а среди монахов (причем, наиболее преуспевших в подвижничестве) оно
принимает наиболее ожесточенный характер, хотя, казалось бы, должно было быть
наоборот. Нестор в "Житии Феодосия Печерского" пишет: "И много раз злые духи
досаждали ему, являясь в видениях в той пещере, а порой и раны ему наносили,
как пишут и о святом и великом Антонии. Но явился к Феодосию тот, и велел ему
дерзать, и невидимо с небес даровал ему силу для победы над ними.
Кто не подивится блаженному, как он, оставаясь один в такой темной пещере, не
устрашился множества полчищ невидимых бесов, но выстоял в борьбе с ними, как
могучий храбрец, молясь богу и призывая себе на помощь господа Иисуса Христа. И
так победил их силой Христовой, что не смели они и приближаться к нему и лишь
издали являлись ему в видениях. После вечернего пения садился он подремать, ибо
никогда не ложился, а если хотел поспать, то садился на стульце и, подремав так
немного, снова вставал на ночное пение и коленопреклонение. Когда же садился
он, как мы говорили, то тут же слышал в пещере шум от топота множества бесов,
как будто одни из них ехали на колеснице, другие били в бубны, иные дудели в
сопели, и так все кричали, что даже пещера тряслась от страшного гомона злых
духов. Отец же наш Феодосий, все это слыша, не падал духом, не ужасался
сердцем, но, оградив себя крестным знамением, вставал и начинал распевать
псалмы Давидовы. И тотчас же страшный шум этот затихал. Но как только,
помолившись, он садился, снова, как и прежде, раздавались крики бесчисленных
бесов. Тогда снова вставал преподобный Феодосий и снова начинал распевать
псалмы, и тотчас же смолкал этот шум. Вот так много дней и ночей вредили ему
злые духи, чтобы не дать ни минуты сна, пока не одолел он их с божьей помощью и
не приобрел от бога власть над ними, так что с тех пор не смели они даже
приблизиться к тому месту, где блаженный творил молитву" [104; 335
-–337]. Этот
фрагмент требует более детального анализа. Мы только заметим, что бесы являлись
Феодосию только в видениях, когда он начинал засыпать. При этом создавалась
реальность, в которой трудно было различить субъективное (видения),
сверхчувственное (бесы) и чувственно-объективное ("пещера тряслась"). В
западноевропейской и буддистской литературе проблеме достижения просветления и
описанию этого состояния уделяется чрезвычайно большое внимание, здесь же
десубъективистски-объективистская установка препятствует остановиться на
повествовании важнейшего момента в жизни Феодосия
-– его
просветлении, когда бесы оставили его. К тому же, мастерски убирая в тень роль
самого Феодосия в победе над бесами, утверждается, что одолел он их с божьей
помощью и приобрел от бога власть над ними.
Повышенная чувствительность, экзальтированность монашеского мировосприятия
приводит к более крайним формам объективации духовных переживаний. Тот же
Нестор пишет о страстях Иллариона: "А вот что поведал мне один из монахов, по
имени Илларион, рассказывая, как много зла причиняли ему в келье злые бесы. Как
только ложился он на своей постели, появлялось множество бесов и, схватив его
за волосы, тащили и толкали, а другие, приподняв стену (!- В.М.), кричали:
"Сюда волоките, придавим его стеною!". И творили такое с ним каждую ночь, уже
не в силах терпеть, пошел он к преподобному отцу Феодосию и поведал ему о
пакостях бесов. И хотел из этого места перейти в другую келью. Но блаженный
стал упрашивать его, говоря: "Нет, брат, не покидай этого места, а не то станут
похвалятсяпохваляться
злые духи, что победили тебя и причинили тебе горе, и с тех пор начнут еще
больше зла тебе причинять, ибо получат власть над тобою. Но молись богу в келье
своей, и бог, видя твое терпение, дарует тебе над ними победу, так что не
посмеют и приблизиться к тебе". Тот же снова обратился к нему: "Молю тебя,
отче, не могу больше находиться в келье из-за множества живущих в ней бесов".
Тогда блаженный, перекрестив его, снова сказал: "Иди и оставайся в келье своей,
и отныне не только не причинят тебе никакого зла коварные бесы, но и не увидишь
их более". Он поверил, и, поклонившись святому, пошел в свою келью, и лег, и
выспался сладко. И с тех пор коварные бесы не смели больше приблизиться к тому
месту, ибо были отогнаны молитвами преподобного отца нашего Феодосия и
обратились в бегство" [104; 349].
Приведем еще один фрагмент из "Жития Авраамия Смоленского", в котором
проявляется многообразие превращений "дьявольского" мира, их частично
эротическая обусловленность, а также своеобразие единства субъективного,
сверхчувственного и материального миров: "Сатана, видя, что силой Христа
побежден он святым, являлся ему иногда ночью, иногда днем, устрашая и угрожая
ему, освещая его ночью как огонь, так что многие вместе с ним не могли спать,
иногда же сатана пугал его, или являясь ему во многих наваждениях ростом вплоть
до потолка и снова нападая на него как лев, устрашая его, как лютые звери, или
же нападая и избивая его подобно воинам, иногда даже сбрасывал его с постели.
Когда же блаженный пробуждался, вкусив мало сна из-за злых окаянных бесовских
видений, тот ему днем еще более досаждал, являясь ему иногда в собственном
виде, иногда преображаясь в бесстыдных женщин, как пишется и о Великом Антонии
" [104; 349].
Неисчерпаемость принимаемых бесами форм так велика, что они могут являться в
образе праведника, ангела и даже Иисуса Христа, и таким образом
стирается грань между божественным и дьявольским, что опять-таки отражает
сложность борьбы между праведным и злым началами. В "Киево-Печерском патерике"
приводится история преподобного Исакия пещерника, который затворился в пещере.
Великий Антоний через день приносил ему одну просфору и немного воды и подавал
в оконце, куда едва проходила рука. "И в таком житии провел семь лет Исакий, не
выходя наружу, не ложился на бок, но сидя спал, понемногу. Однажды, как обычно,
когда наступил вечер, он стал класть поклоны и петь псалмы, и так до полуночи
и, утомившись, сел на сиденье свое. И когда он сидел так, как всегда, свечу
погасив, внезапно засиял свет в пещере, как от солнца, такой, что мог ослепить
человека. И подошли к нему двое юношей прекрасных с лицами блистающими, как
солнце, и сказали ему: "Исакий, мы
-– ангелы, а вот
идет к тебе Христос с ангелами". Исакий встал и увидел толпу бесов, и лица их
были ярче солнца, а один среди них светился ярче всех, и от лица его лучи
исходили. И сказали ему: "Исакий, это Христос, пав, поклонись ему". Исакий же,
не поняв бесовского наваждения и забыв перекреститься, вышел из келии и
поклонился, как Христу, бесовскому действу. Тогда бесы воскликнули и сказали:
"Теперь ты наш, Исакий!". Ввели они его в келию, посадили и сами стали садиться
вокруг него. И вся келия и проход пещерный наполнились бесами. И сказал один из
бесов, тот что назывался Христом: "Возьмите сопели, и бубны, и гусли и играйте,
а Исакий нам спляшет". И грянули они в сопели, и в гусли, и в бубны, и начали
забавляться. И, измучив его, оставили его еле живого, и ушли, надругавшись над
ним" [105; 609]. Любопытно было бы провести психологическую интерпретацию
подобного рода текстов.
Основными средствами в борьбе с дьявольскими наваждениями служили пост,
физический труд и молитва. Пост играет двоякую роль: с одной стороны,
умерщвление плоти существенно ослабляет телесные желания, а с другой – приводит
к обострению чувствительности психики, повышенной экзальтации, что
благоприятствует появлению ярких галлюцинаций. Изнурительный труд способствует
мобилизации организма. Печерский монах Федор "предал себя на работу тяжкую,
чтобы не облениться, пребывая в праздности, ибо из-за этого пропадает страх
божий, а бесы обретают власть" [105; 579]. Приведенные выше фрагменты
свидетельствуют, что сатана и бесы появляются и нападают на подвижника в минуты
расслабления, ослабления самоконтроля. Особенно большое значение придавалось
молитве, совершение которой обеспечивает непосредственную связь с богом,
концентрирует волевые и духовные усилия на переживание трансцендирующей связи с
богом. Особенное прилежание имел к молитве Григорий-чудотворец, "и за то
получил власть над бесами, так что, находясь даже вдали от него, они вопили: "О
Григорий, изгоняешь ты нас молитвою своею!" У блаженного был обычай после
каждого пения творить запретительные молитвы [105; 531].
Если праведник проявляет непреклонную волю в достижении духовного освобождения,
то сверхчувственная бесовская активность переключается на внешнее окружение,
чтобы помешать достижению подвижником заветной цели. По бесовскому наваждению
мать стремилась воспрепятствовать смирению своего сына Феодосия. Когда сын
боярина Иоанна постригся в монахи в Печерском монастыре, ненавидящий "все
доброе враг наш, дьявол, видя, что
побеждаем, он святым стадом, ...начал он злыми кознями разжигать гнев
князя на преподобных, чтобы таким образом разогнать святое стадо, но ни в чем
не преуспел, и сам был посрамлен молитвами их, и пал в яму, которую сам же
выкопал" [104; 325]. Когда сатана, искушая Авраамия Смоленского, не смог
одолеть блаженного, "тогда воздвиг на него мятеж...", "сатана, войдя в сердца
бесчинных, воздвиг их на Авраамия: и начали одни клеветать на него епископу,
другие же хулить его и досаждать ему, одни называли его еретиком, другие же
говорили о нем: он читает глубинные книги, другие же обвиняли его в блуде."
[106; 81].
В "Киево-Печерском патерике" имеется рассказ монаха Иоанна о том, как он достиг
просветления. "С того часа, брат, поселился я здесь (в пещере
-– В.М.) в этом
тесном и скромном месте, и вот уже тридцатый год, как я живу здесь, и только
немного лет назад нашел успокоение. Всю жизнь свою неутомимо боролся я с
помыслами плотскими. И сначала жестокой я сделал жизнь свою воздержанием в
пище. И потом, не зная, что еще сделать, не в силах терпеть борьбы с плотью,
задумал я жить нагим, и надел на себя вергии тяжкие, которые с тех пор и доныне
остаются на теле моем, и сушит меня холод и железо. Наконец прибег я к тому, в
чем и нашел пользу. Вырыл я яму, глубиною до плеч, и, когда пришли дни святого
поста, вошел я в яму и своими руками засыпал себя землей, так что свободными
были только руки и голова, и так, под этим тяжким гнетом, пробыл я весь пост,
не в силах шевельнуть ни одним суставом, но и тут не утихли желания плоти моей.
К тому же враг-дьявол страхи разные наводил на меня, чтобы выгнать меня из
пещеры, и ощутил я его злодейство. Ноги мои, засыпанные землей, начали снизу
гореть так, что жилы
скорчились и кости затрещали, потом пламень достиг до утробы, и загорелись
члены мои, я же забыл лютую ту боль и порадовался душою, что она очистит меня
от такой скверны, и желал лучше весь сгореть в огне том
, господа ради,
нежели
, выйти из ямы той. И вот увидел я змея, страшного и свирепого, который
хотел всего меня пожрать, дыша пламенем и обжигая меня искрами. И так много
дней мучил он меня, чтобы прогнать из пещеры. Когда же наступила ночь
воскресения Христова, вдруг напал на меня лютый тот змей и пастью своей ухватил
голову и руки мои, и опалились у меня волосы на голове и бороде, как ты можешь
видеть и теперь. Я же в пасти змея того уже был и возопил из глубины сердца
своего... И когда я окончил молитву, вдруг блеснула молния, и лютый тот змей
исчез от меня, и после того я не видел его и доныне. Тогда свет божественный,
как солнце, осиял меня.. И
пришел на меня свет неизреченный, в котором и ныне пребываю, и не имею нужды в
свече ни ночью, ни днем; да и все достойные, приходя ко мне, наслаждаются этим
светом и ясно видят утешение его, осветившего мне ночь, ради надежды на свет
будущий" [105; 541-
–543]. Примечательно, что объективистские геоцентристские ориентации
приводят к истолкованию просветления не как внутреннего духовного очищения, а
как нисхождение внешней благодати в виде чувственно воспринимаемого света
, не как индивидуального подвига, победы индивидуального духа, а как дара
свыше, дара божьего. В "Слове о законе и благодати" Иллариона "благодать"
рассматривается в объективно-идеалистическом плане
, как высшая
объективная духовная реальность, а не как высшее состояние индивидуального
духа.
В "Житии Сергия Радонежского" также дается объективистская интерпретация
просветления великого подвижника: "Чтобы преподобный, твердый душой, видимо и
невидимо с бесами борющийся, победителем бесов стал, для этого вскоре некая
божественная сила внезапно его осенила, и лукавых духов разогнала она быстро, и
окончательно без вести рассеяла их, и преподобного утешила, и божественным
неким наполнила его весельем, и усладила сердце его сладостью духовной. Сергий
же, тотчас осознав быструю помощь бога и милость
, и благодать
божью уразумев, благодарность и похвалы к богу воссылал" [107; 311].
Таким образом, две
ценностно-тематические структуры определяют ментальное пространство
христианской субкультуры, а по мере её распространения
- и всей древнерусской
культуры в целом. Во-первых,
- деление универсума
на два мира, сверхчувственный, определяющий и материальный, зависимый, которые
в духовном пространстве культуры находят выражение в формировании двух основных
ценностно-мыслительных систем, называемых мной архетипами религиозности и
натурализма. Во-вторых,
- унаследованное от
натуралистического языческого мифологического сознания объективистское
восприятие действительности отражало слабое развитие индивидуального начала в
христианской субкультуре и древнерусской культуре в целом. Если первое
обстоятельство является универсальным для европейского средневекового мышления,
то второе -
определяет главное отличие европейского духа от древнерусского. Если одной из
главных тенденций развития духовного пространства западноевропейской культуры
за два с половиной тысячелетия вплоть до XXI века, которую уверенно можно
назвать закономерностью, является неуклонное расширение индивидуалистических
ценностно-мыслительных ориентаций (архетипа хомоцентризма), то, начиная с
древнерусской культуры, закладывалась традиция элиминации, вытеснения,
подавления индивидуалистического начала в русской культуре. При этом
сознательно, а чаще всего бессознательно, изобретаются самые изощренные формы
подавления условий развития личности вплоть до XXI века. Эту тенденцию развития
восточнославянского духа нам предстоит проследить до начала ХVIII века.
Христианизация ментального пространства культуры как "переоценка всех ценностей"
Важнейшей задачей настоящего параграфа является теоретическая реконструкция
ФТС ценностно-мыслительного
тематического пространства христианской субкультуры
, которая, как отмечалось, предполагает, прежде всего, выделение списка
доминирующих тем, анализ их содержания и отношений между ними. Понятие
"теоретическая реконструкция" не означает буквального воспроизведения
изучаемого социального или природного объекта, что, как известно, невозможно.
Задача по существу сводится к построению теоретического объекта, который должен
воспроизводить существенные моменты структуры и динамики изучаемого явления. Но
поскольку языки описания могут быть самыми различными и в принципе отличаются
от реально имевших место событий (в данном случае духовной культуры), потому
что всякий язык описания выступает способом кодирования информации, создает
другую языковую реальность, то теоретическая реконструкция духовной культуры
может означать приведение в некоторую систему имеющихся разрозненных фрагментов
культурно-исторического материала и определение динамики ее развития. Как
известно, теоретический объект – это идеализированный объект, характеристики и
свойства которого берутся как бы в "очищенном" виде посредством процедуры "дать
строгое определение".
Христианство в Киевской Руси было весьма неоднородно. Оно существенно
различалось в народной, княжеско-дружинной среде или же в монашеских общинах.
Поэтому для построения теоретического объекта "христианско
го ментального
пространства" целесообразно использовать материал монашеской
ментальности, в которой особенности древнерусского христианского духа
представлены наиболее ярко и насыщенно. К тому же высшее духовенство, монастыри
Киевской Руси служили образцом для всех остальных слоев общества и оставили
наибольшее количество письменных источников, дошедших до нас.
Духовный переворот, вызванный формированием христианско
гой суб
пространства и стремительным
его расширением,
нашел выражение не только в открытии нового измерения, чисто духовной
божественной реальности, но и в тотальной "переоценке всех ценностей".
Христианизация ментального пространства древнерусской культуры как сложный
диалектический процесс взаимодействия трех ценностно-мыслительных систем,
взаимного наложения трех субпространственных конфигураций (земледельческой
славянской языческой, княжеско-дружинной и христианской субкультур) будет
рассмотрен в следующем параграфе. Здесь же необходимо проследить становление
христианского
й субпространства
как формирование новой тематической структуры, выделившейся посредством
преодоления, перестройки тематического пространства языческой ментальности.
Тема "натуры"
Одной из главных трудностей в утверждении христианского образа мышления явилось
преодоление натуралистического характера языческого мировосприятия и в целом
натуралистических ценностных ориентаций. Если в языческой мифологии
натуралистические ценности находили благоприятную почву и пышно произрастали,
заполнив все духовное пространство, то христианство развернуло кампанию по их
выкорчевыванию, а в среде монашества
-– по их
ликвидации. Так, знаменитые монахи Печерского монастыря преуспели не только в
деле подчинения плотского начала духовному, но и в действительном умерщвлении
плоти. Если в языческом ментальном пространстве натуралистическое измерение
всех ценностей было абсолютно и универсально, носило аксиоматический характер,
то христианство упразднило его, установило в качестве абсолютного и
универсального стандарта высшую, чистую, божественную духовность (Царство
Небесное, благодать и т.д.). Все это закладывало совершенно иную шкалу
ценностей, когда сознание, весь строй души определяли и направляли высшие
христианские добродетели, лишив всякой значимости ценности натуралистические.
Светила древнерусского духа князья Борис и Глеб, черноризцы Антоний и Феодосий
, и многие
другие не ограничивались проповедью о Царстве Небесном и духовном спасении, а
мужественно следовали христианским заповедям на протяжении всей своей жизни,
превратив её в подвиг служения. Примером тому может служить жизнь монаха Моисея
Угрина, родом венгра, который, избежав смерти во время убийства князя Бориса,
был уведен в качестве пленника в Польшу после изгнания Болеслава из Киева.
Моисей был крепок телом и прекрасен лицом. Знатная, красивая, молодая и богатая
женщина безумно влюбилась в него. На все её предложения он отвечал безусловным
отказом: "Твердо знай, что не исполню я воли твоей; я не хочу ни власти твоей,
ни богатства, ибо для меня лучше всего этого душевная чистота, а более того
телесная. Не пропадут для меня втуне те пять лет, которые господь даровал мне
претерпеть в оковах этих. Не заслужил я таких мук и потому
надеюсь, что за них избавлен буду мук вечных" [105; 545]. "Я же не
Египетского царства хочу и не власти, не хочу быть великим между поляками,
почитаемым во всей Русской земле сделаться. Ради высшего царства я всем этим
пренебрег" [105; 549]. Претерпев от нее истязания, после её гибели Моисей
вернулся в Киев, постригся в монахи Печерского монастыря, где и умер.
Рыцарства не было в Киевской Руси, но, начиная с XI века, были рыцари духа,
чистые христиане, которые всей своей подвижнической жизнью демонстрировали
абсолютный приоритет высших христианских добродетелей, полный разрыв с внешним
миром и полное его обесценивание. Еще один пример из "Жития Феодосия
Печерского". Когда в 1073 году князья Святослав Черниговский и Всеволод
Переяславский изгнали князя Изяслава из Киева, а Киевский князем стал
Святослав, то Феодосий резко осудил эти беззаконные действия и отказался от
всяких контактов со Святославом и его поддержк
ие. Феодосию
угрожали заточением, на что он ответил: "Это очень радует меня, братья, ибо
ничто мне не мило в этой жизни: разве тревожит меня, что лишусь я благоденствия
или богатства? Или опечалит меня разлука с детьми и утрата сел моих? Ничего из
этого не принес я с собой в мир сей: нагими рождаемся, так подобает нам нагими
же и уйти из мира сего. Поэтому готов я принять смерть." [104; 379].
Тема "натуры" как природы не отрицается христианской субкультурой,
остается для неё нейтральным пространством, которое было заполнено смыслами,
восприятиями и интуициями славянской языческой культуры. А.А.Потебня приводит
высказывание Шварца: "Христианство принесло только веру во единого Бога и
Христа, пострадавшего за грехи человечества, и затем – немногосложное
богослужение. Но оно, вообще исключающее природу, не дало объяснения многим
чудесным явлениям природы, которые язычник объяснил, связавши со своею верою.
Только немногие главные явления природы, например, гроза, течение звезд, да и
то поверхностно, приведены в связь с христианским Божеством. Поэтому
христианство могло лишь несколько ограничить, но не могло вполне устранить той
части язычества, которая обращена к природе. Далее, христианство оставляло
много незаполненного пространства вокруг событий семейной жизни, рождения,
брака, смерти, вокруг занятий, например, охоты, земледелия, скотоводства,
прядения" [123; 276–277].
Тема “божественного”
Переосмысление нуминозной составляющей ментального пространства осуществлялось
по двум основным направлениям. Во-первых, непрерывно разворачивалось
пространство представлений об абсолютно чистой, духовной божественной
реальности. Причем, это пространство неожиданно оказалось безграничным полем
для работы древнерусского христианского духа, благодаря
собственному религиозному опыту и хлынувшей и все время увеличивающейся
религиозной литературе из Византии и Болгарии. Христианство принесло в
древнерусскую ментальность неизвестное ранее ощущение трансцендентной связи.
Язычеству были известны только натуралистические отношения, в том числе при
взаимоотношениях с богом. Языческие боги были невидимы, но не нематериальны.
Христианские представления о
б Боге как высшем, запредельном, всеблагом начале открывали невиданное
ранее, потрясшее и преобразовавшее всю душу древнерусских христиан, переживание
трансцендентной связи с Богом. Поэтому молитве отводилось столь большое место в
христианской субкультуре. Так, печерский монах Григорий-чудотворец обычно
"целые ночи проводил без сна, пел и молился беспрестанно, стоя посреди келии
своей" [105; 533]. "Если и на коне едучи не будет у вас никакого дела, –
поучает Владимир Мономах, – и если других молитв не умеете сказать, то "господи
помилуй" взывайте беспрестанно втайне, ибо эта молитва всех лучше, нежели
думать безлепицу, ездя" [104; 399].
Во-вторых, была проведена десакрализация языческих богов. Важно было не
столько сбросить идолов в реку или разрушить, сколько лишить их внутренней,
душевной поддержки. На наш взгляд, те из древнерусских славян, кто имел
возможность немного познакомится с христианским учением о Боге, принимали его
без особой внутренней борьбы в силу несравненно большей его глубины и
привлекательности. Другой вопрос, что христианское учение не было
всеохватывающим. Поэтому для осмысления природных явлений оставалось место и
языческим богам, что служило важнейшим источником двоеверия. Языческие боги
превратились в бесов, сверхчувственных, натуралистических сил, источник зла и
опасности.
Тема "рода"
Родовые отношения подверглись также дальнейшему разрушению. Если в языческом
мыслительном пространстве осознавали себя и весь мир через призму различного
рода родственных связей, были словно нитями опутаны кровно-родственными и
племенными отношениями, то христианство, выдвинув на первый план учение об
индивидуальном спасении, главным, определяющим сделало отношение отдельного
человека с Богом, жизнь не нынешнюю
, скоротечную,
а вечную,
в Царстве Небесном. Вместе со всеми другими социальными отношениями родовые
связи отходили на второй план, становились второстепенными по сравнению с
христианскими ценностями. В этом смысле показательной является история
отношений Феодосия с матерью. Неукротимое с юных лет стремление Феодосия к
аскетизму, к монашескому образу жизни приводило к разрыву связей с матерью,
которая фактически теряла Феодосия как сына. В этой непростой ситуации Феодосий
как образец праведника без колебаний делает выбор: уходит из дома и
постригается в монахи. В "Житии Феодосия Печерского" приводится история отрока
из богатой боярской семьи, который втайне от родителей, жены постригся в монахи
Печерского монастыря и нарекли ему имя Варлаам. Его отец боярин Иоанн насильно
забрал Варлаама из монастыря и привел домой. Варлаам решительно отказался
принимать пищу и не хотел одевать богатую одежду. "Услышав об этом, сжалился
отец его, страшась как бы он не умер от голода и холода. Призвал его к себе и,
облобызав, разрешил ему покинуть дом. И было тогда нечто дивное, и плач стоял
словно по мертвом. Слуги и служанки оплакивали господина своего как уходящего
от них, с плачем шла следом жена, ибо лишилась мужа, отец и мать рыдали о своем
сыне, ибо уходил от них, и так с громкими стенаниями провожали его. Тогда воин
Христов вышел из дома своего, словно
птица, вырвавшаяся из сети или серна из западни, и чуть ли не бегом достиг
пещеры." [104; 329]. Впоследствии, затворившись в одной из келий пещеры,
преподобный Антоний игуменом Печерского монастыря поставил вместо себя
блаженного Варлаама.
Таким образом, осуществление христианского идеала требовало однозначного
предпочтения самых близких семейно-родственных отношений служению Богу.
Однако это, безусловно, не означает разрушение христианством кровно-
родственный отношений. Приведенные выше две истории относятся к области
осуществленного христианского идеала. После принятия христианства в обществе
и духовной культуре Киевской Руси церковь сыграла важную роль в
упорядочивании семейно-брачных родовых отношений с точки зрения высокой
морали.
Деэротизация ментального пространства
Становление христианской субкультуры требовало непременно деэротизации
языческого ментального пространства. Эротические вожделения должны были быть
жестко подавлены. О трудностях осуществления этой духовной работы в монашеской
среде имеются слабые намеки в письменных источниках. Так, в "Житии Авраамия
Смоленского" сообщается, что блаженному Авраамию бес являлся "иногда в
собственном виде, иногда преображаясь в бесстыдных женщин, как пишется и о
Великом Антонии" [106; 81]. Вероятно, бес Эроса изматывал в кельях
древнерусских монахов, которые волевым усилием (на уровне сознания) добивались
устранения эротических желаний. Однако заблокированные в подсознании,
последние проявлялись в бесовских наваждениях. Было бы любопытно
проанализировать с точки зрения современного психоанализа сексуальную
обусловленность бесовских видений, описанных в древнерусской литературе.
Следует напомнить, что задачей этого параграфа является реконструкция ФТС
ценностно-мыслительного пространства христианской субкультуры как
теоретического, идеализированного объекта, характеристики которого с
необходимостью требуют абстрагирования и идеализации.
В языческой культуре натуралистически-эротические отношения между мужчиной и
женщиной носили внеморальный характер. Это были естественные, природные
отношения, к которым неприложимы понятия добра и зла. В древнерусской
культуре только христианство привнесло нравственную оценку, духовное начало в
эти отношения, после чего языческая любовь приобрела характер скверны, греха,
а словесное выражение этих отношений стало рассматриваться как сквернословие,
грех.
Отрицание физической силы
Наибольшее неприятие и протест со стороны христианской субкультуры в
тематическом пространстве дохристианской древнерусской культуры (языческой
земледельческой и княжеско-дружинной субкультур) вызвала тема "физической
силы", её доминирующее положение. Поэтому в древнерусской культуре ХІ
-– ХІІІ вв.
??? борьба за подавление и вытеснение грубой материальной силы как основы
общественных отношений и установление нравственного, правового порядка стало
одной из главных задач христианской церкви. В рассказе о печерском монахе
Лаврентии-затворнике физическая сила приобретает бесовский характер. Когда к
нему привели одного бесноватого из Киева, и не мог затворник изгнать из него
беса, очень лют был: бревно, которое десять человек снести не могли, он один,
подняв, забрасывал. Бесноватый исцелился, как только подошел к Печерскому
монастырю [105; 521-
–523]. В том же "Киево-Печерском патерике" повествуется о том, как,
обуздав свою плоть и достигнув освобождения, черноризец Феодор получил с
помощью молитвы власть над бесами и направил их недюжинные силы в сторону
созидания (бесы за ночь измолотили пять возов зерна, перенесли большие бревна
от Днепра на гору для постройки церкви) [105; 579
-–581].
Последовательно проводя высокоморальный подход в оценке социальных явлений,
христианская церковь Киевской Руси со всей очевидностью показала
безнравственность, разрушительный характер языческого "силового" мышления.
Столкновение двух "идеологий", языческой и христианской, в яркой форме
изображено в "Повести о битве на Липице". Суть противоборства между
новгородцами во главе с князем Мстиславом и суздальцами, возглавляемыми князем
Ярославом, выражается во фразе: "Ты, Ярослав, с силою, а мы с крестом" [106;
115]. Князь Юрий, союзник Ярослава, кратко излагает свою позицию: "...
пПересиль нас,
тогда вся земля ваша будет" [106; 119]. На что Мстислав отвечает: "...
гГора нам не
поможет, и не гора нас победит. Надеясь на крест и правду, пойдемте на них"
[106; 121]. И победил Мстислав, устанавливая справедливость.
Проекция борьбы христианства с языческим культом силы на индивида, отдельного
человека носила двоякий характер. С одной стороны, выдвигалось требование
подчинения физических сил организма, что для физически крепких славян
представляло значительную трудность, подавления чувственных желаний как
непременного условия очищения души, духовного освобождения. Основными
средствами на этом тернистом пути для достижения цели являлись пост, бдение,
физический труд. "Много размышлял я,
-– говорит
благоверный князь Святоша, в иночестве Николай,
-– и решил не
щадить плоти своей, чтобы снова не поднялась во мне борьба: пусть под гнетом
многого труда смирится она. Ведь сказано., что силе совершаться подобает в
немощи" [105; 501-
–503]. С другой -
– обуздание гордыни. Нравственными императивами здесь выступали смирение,
послушание, милосердие, любовь. Блаженный Авраамий Смоленский как один из
образцов древнерусского христианского духа "во всем повиновался игумену, и
слушался всех братьев, и был полон любви и смирения, и покорялся всем бога ради
" [106; 75]. "Как в огне очищается золото, так люди в горниле смирения,
-– замечает
автор в "Киево-Печерском патерике" [105; 607].
Трансформация темы "вольницы"
Существенную трансформацию в
христианском мыслительном пространстве
христианской
субкультуры претерпела тема "вольницы". В древнерусской языческой культуре
ощущение вольницы возникало как душевное выражение отсутствия развитой системы
социальной регуляции, когда частная жизнь и отношения с природой в значительной
степени не охватывалось государством. Этот языческий "стихийный анархизм"
славян Киевской Руси носил чисто натуралистический характер, как и все
тематическое пространство языческой древнерусской культуры, не выходил за
горизонт чувственно-материального (природного и социального) мира.
Светила древнерусского духа, монахи, все усилия направляли к преодолению
"земного притяжения", оков этого мира, к духовному освобождению. С понятием
"языческой вольницы" как одной из ментальных форм варварского внеморального
существования,
не сопоставимо понятие "свободы", являющееся одной из главных ценностных опор
цивилизованного общества. Применительно к христианской ментальности более
уместно употребление понятие "свободы". Христианское понимание свободы
мыслилось как результат, вознаграждение за праведную, высоконравственную,
строго аскетическую жизнь в тленном мире. Более "приземленное" понимание
свободы в христианской субкультуре сводится к достижению независимости от
окружающего мира, равнодушия к нему. Действительная же свобода как самоцель
возможна только в жизни вечной, в Царстве Небесном. Не языческая свобода
чувственного произвола, а предощущение действительной свободы в запредельном
мире было одним из главных императивов поведения древнерусских рыцарей духа.
Примечательно, что почти в диаметрально противоположных понятиях "языческой
вольницы" и "христианской свободы" есть одна точка соприкосновения
-– "анархизм"
как бегство от государства, от зверств социальной жизни.
Отрицание духа наживы
Безусловному отрицанию также подверглась доминирующая тема княжеско-дружинной
субкультуры -
– тема "добычи". Ориентируясь на жизнь вечную в Царстве Небесном и
презирая жизнь тленную, христианская проповедь в ХІ - ХІІ вв. не принимала не
только дух наживы, но и наличие богатства, вообще собственности, которую
праведникам рекомендовала раздать в качестве милостыни нищим.
Таким образом, введение и распространение христианства на Руси знаменовало собой
существенную перестройку ментального пространства древнерусской культуры.
Языческая ценностно-тематическая структура мировосприятия подверглась
разрушению и всяческому вытеснению. По мере
формирования
становления и расширения
христианского ментального субпространства
формировалась ФТС из
доминирующих тем православного христианства. Основные
ценностно-тематические сдвиги выразились преимущественно, с одной стороны, в
денатурализации (в отрицании и разложении натуралистического, дионисийского
образа жизни), а с другой
-– в
христианской сакрализации, морализации ментального пространства культуры
Киевской Руси в ХІ в. Древнерусский славянин открыл для себя восхитивший его
трансцендентный божественный мир, загробное бытие Царства Небесного, которые
стали главными опорами его в жизни, и нравственного человека как основу
повседневного существования. При этом осознания специфики субъективной
реальности, оценки личностного бытия как абсолютной ценности не произошло.
Поэтому слабое выражение индивидуального начала, объективизация внутренней
жизни в древнерусском православии XI в. заложили традицию развития на
последующие столетия, предопределили ее своеобразие в православном и в целом
, в
христианском мире.
Если попытаться
структурировать множество христианских тем в культуре Киевской Руси в XI в., то
их можно сгруппировать в два подмножества, одно из которых характеризуется
преимущественно трансцендентной ориентацией на Царство Небесное (Троица,
богородица, ангелы, святые, рай), другое
- моральной
(христианские заповеди, мораль). В отличие от западноевропейской христианской
культуры, в которой большое и важное место занимают субъективные переживания
выше обозначенных групп христианских тем-ценностей, связанных с индивидуальным
отношением к ЦН, достижением святости или преодолением греховности и т.д.. в
православии Киевской Руси этот тематический блок не получил развития,
практически отсутствует. Его заменяет представление о данной Богом благодати.
§5. Ценностно-тематическое пространство культуры
Киевской Руси в ХІІ – первой трети ХІІІ вв. и “Слово о полку Игореве”
Анализ дошедших до нас письменных источников позволяет заключить, что к началу
ХІІ в. христианство приобрело характер доминирующей системы мировосприятия в
Киевской Руси, которое выражалось в очевидном, не требующем доказательств для
древнерусского человека представлении о божественной реальности (Троице,
богоматери, ангелах, святых и др.) как конечной и непосредственной причины всех
происходящих событий. Ссылка на христиански истолкованную божественную
реальность стала само собой разумеющимся, всеобщим способом объяснения всех
природных и социальных процессов. Эта иерархическая структура миросозерцания
была настолько универсальной, что, судя по литературным памятникам этой эпохи,
не имела исключения. В ХІV
-– ХVІ вв. эта
ментальная структура становилась все более устойчивой и консервативной. В этом
смысле жители Киевской Руси, а в последствии и моск
овиты, были больше христианами, чем западноевропейцы. Эта обычная для
средневековья схема мышления в западноевропейской культуре в ХІV
-– ХVІ вв. не
носила столь жестко детерминированного и универсального характера божественного
вмешательства. Социально-политические, межличностные отношения, человек, сфера
военных действий и др. все более приобретали автономию. Божественный промысел
чаще всего выступал в качестве опосредованной, конечной причины, предоставляя
относительную свободу действий политику, предпринимателю, полководцу,
конкретному человеку, разум, воля, личные
добродетели
добродетели, которых выступают непосредственными причинами происходивших
событий. Поэтому описания западноевропейских мыслителей носят более сложный,
многоплановый характер, не сводятся к выше
обозначенной упрощенной схеме мышления, однако, при этом в целом и не
противоречат ей.
Между тем, ментальное пространство культуры Киевской Руси в XII
-– первой трети
XIII вв. не было столь монолитным и однородным. Оно было разорванным. По мере
становления русской культуры во второй половине XIII
-–XVI вв. этот
разлом становился более острым и болезненным. Разрыв тематического пространства
культуры произошел вследствие существования двух ценностно-тематических
центров, которые были источником двух диаметрально противоположных
ценностно-мыслительных ориентацией: одного легитимного, христианской ФТС, и
другого нелигитимного, официально осуждаемого, языческого. Языческие
темы-ценности “натуры”, “силы” и “добычи”
(Н-С-Д), несмотря на внешнее и всеобщее порицание в греховности,
составляли как бы внутреннюю, неотъемлемую природу древнерусского человека,
которые как бессознательные стимулы
, в большой
степени определяли мотивацию и характер социальных отношений. Православная
церковь, имея поддержку князей, бояр и др. не смогла преодолеть этого
внутреннего вездесущего врага. В западноевропейской культуре именно в этот
период (XII -
– XIII вв.) этот враг был
в большей степени сломлен, повержен, вытеснен в глубины бессознательного
рыцарским движением. Куртуазность (любовь к даме, честь, верность и т.д.) не
только поставила вне закона грубый натурализм и физическую силу как проявления
варварства в социальных отношениях, но и преобразовала внутреннего человека,
выступая постоянным мотивом его самоусовершенствования, упражнения в
добродетели. При этом рыцарство опиралось на христианские ценности, что
позволило в значительной степени преодолеть христианско-языческий разрыв
ментального пространства культуры. В Киевской Руси этого движения не было.
Вследствие отсутствия представлений о внутреннем человеке
, отсутствовала и установка на его самоусовершенствование. Доблесть и
честь рассматривались как проявления силы. Поэтому в Киевской Руси преобладали
не внутренние регуляторы поведения (нравственные добродетели), а внешние.
Особое значение приобрело крестное целование как средство стабилизации
отношений между князьями, в целом межличностных отношений, в котором
просматриваются магические корни. Однако
, в эпоху
нарастания феодальной раздробленности, распада Киевской Руси крестное целование
становилось все менее эффективным средством сохранения мира и порядка. В
Киевской летописи под 1146 г. сообщается: "Ізяслав же Давидович приїхав скоро,
бо він цілував був хреста в /церкві/ святого Спаса з братом Володимиром Ігореві
і батькові його Святославу, а єпископ Онофрій пресвітерам своїм сказав: “Якщо
хто од цього хресного цілування одступить, хай проклят він буде господніми
дванадцятьма праздниками". Та по небагатьох же днях одступили обидва Давидовичі
од хрестного цілування” [73; 200].
Неоднородность ценностно-тематического пространства культуры Киевской Руси также
выражается в существовании достаточно большого спектра переходных форм между
языческим и христианским ценностными полюсами, от чисто языческих на окраинах и
в наиболее глухих районах Киевского государства, куда культурное влияние
практически не доходило, до чистого древнерусского христианства в монастырях,
прежде всего, в Киево-Печерском. Однако это обстоятельство не отрицает
фундаментальности и универсальности выше обозначенной дуалистической
ценностно-тематической структур
ыой в общей
системе ментального пространства древнерусской культуры, в которой христиански
осмысленная божественная реальность выступала в качестве определяющей. В
письменных источниках XII
-– первой трети
XIII вв., например, в летописях, эта ментальная структура четко
просматривается.
Примечательны в этом смысле летописные описания похода князя Игоря Святославича
на половцев в 1185г. (более полное
-– в
Ипатьевском, более краткое
-– в
Лаврентьевском списках). На всех этапах повествования этой печальной истории
летописцы за событийной стороной стремятся проследить главное
-– перст божий,
трансцендентную предопределенность происшедших событий. В начале похода, когда,
увидев солнечное затмение, бояре и дружинники опустили головы, и высказали
опасение о недобром затмении, князь Игорь сказал: “Тайны божественной никто не
ведает, а знамение творит бог, как и весь мир свой. А что нам дарует бог – на
благо или на горе нам,
-– это мы
увидим" [105; 353]. Когда разведчики сообщили о военной готовности половцев и
предостерегали о неблагоприятности выбора времени похода, Игорь обратился к
братии своей: “Если нам придется без битвы вернуться, то позор нам будет хуже
смерти; так будет же так, как нам бог даст" [105; 353]. При первой встрече с
половцами в пятницу было принято решение вступить с ними в сражение. Летописиц
Ипатьевского списка при этом замечает: "И двинулись на половцев, возложив на
бога надежды свои” [105; 353]. Когда собрались все полки после победы над
половцами, "обратился Игорь к братии своей и к мужам своим: "Вот бог силой
обрек врагов наших на поражение, а нам даровал честь и славу” [105; 355].
Летописец Лаврентьевском списка относительно этой победы замечает: "Даровал
господь победу великую нашим князьям и воинам их над врагами нашими" [105;
367]. После катастрофического поражения в битве с половцами в воскресенье
летописец Ипатьевского списка пишет: “И так в день святого воскресения низвел
на нас господь гнев свой, вместо радости обрек нас на плач и вместо веселья
-– на горе на
реке Каялы. Воскликнул тогда, говорят, Игорь: “Вспомнил я о грехах своих перед
господом богом моим (а не людьми! – В.М.), что немало убийств и кровопролития
совершил на земле христианской: как не пощадил я христиан, а предал
разграблению город Глебов у Переяславля. Тогда немало бед испытали безвинные
христиане: разлучаемы были отцы с детьми своими, брат с братом, друг с другом
своим, жены с мужьями своими, дочери с матерями своими, подруга с подругой
своей. И все были в смятении: тогда были полон и скорбь, живые мертвым
завидовали, а мертвые радовались, что они, как святые мученики, в огне
очистились от скверны этой жизни. Старцев пинали, юные страдали от жестоких и
немилостивых побоев, мужей убивали и рассекали, женщин оскверняли. И все это
сделал я, -
– воскликнул Игорь, -
– и не достоин я остаться жить! И вот теперь вижу отмщение от господа бога
моего: где ныне возлюбленный мой брат? Где ныне брата моего сын? Где чадо, мною
рожденное? Где бояре, советники мои? Где мужи-воители? Где строй полков? Где
кони и оружие драгоценное? Не всего ли этого лишен я теперь! И связанного
предал меня бог в руки беззаконникам. Это все воздал мне господь за беззакония
мои и за жестокость мою, и обрушились содеянные мною грехи на мою же голову.
Неподкупен господь, и всегда справедлив суд его. И я не должен разделить участи
живых. Но ныне вижу, что другие принимают венец мученичества, так почему же я
-– один
виноватый -
– не претерпел страданий за все это? Но, владыка господи
, боже мой, не отвергни меня навсегда, но какова будет воля твоя, господа,
такова и милость нам, рабам твоим" [105; 357].
В древнерусской литературе мы нередко наблюдаем, что в кризисной ситуации
происходит раскаяние героя, проявления разорванности внутреннего мира,
осуждение греховности языческой
, основанной на ФТС Н-С-Д, сторон
ы в себе. Однако,
это раскаяние обычно не приводит к внутреннему, нравственному очищению. Факт
раскаивания рассматривается как достаточное основание для прощения предыдущих
грехов, подтверждением чему является последующая милость Бога по отношению к
раскаявшемуся. Безличностный характер ментального пространства культуры
Киевской Руси оставляет происшедшее без последствий для духовного и
нравственного оздоровления и совершенствования личности. Субъект очищения
возвращается в омут натурализма, силы и добычи. И все повторяется по кругу.
Лишь в конце жизни, перед лицом смерти на смертном одре происходит последняя
процедура раскаяния и якобы окончательное очищение, победа христианского начала
в человеке. Князь просит посвящения в монахи и просьба его удовлетворяется.
Узнав о случившемся в Половецкой земле, князь Святослав сказал, утирая слезы:
“Даровал мне бог победу над погаными, а вы, не удержав пыла молодости, отворили
ворота на Русскую землю. Воля Господня да будет во всем!” [105; 359]. Завершая
описание грабежей и насилий, совершенных половцами после победы над Игорем,
летописец Ипатьевского списка делает стандартное в подобных случаях заключение
-– мораль: "Вот
так бог казнит нас за грехи наши, привел на нас поганых не для того, чтобы
порадовать их, а нас наказывая и призывая к покаянию, чтобы мы отрешились от
своих дурных деяний. И наказывает нас набегами поганых, чтобы мы, смирившись,
опомнились и сошли с пагубного своего пути [105; 361]. "Игорь же Святославич в
то время находился у половцев, и говорил он постоянно: “Я по делам своим
заслужил поражение и по воле твоей, владыка господь мой, а не доблесть поганых
сломила силу рабов твоих. Не стою я жалости, ибо за злодеяния свои обрек себя
на несчастья, которые я испытал” [105; 361].
Чтобы склонить боявшегося бесчестья Игоря к побегу, сын тысяцкого и конюший его
убеждали князя: "Беги, князь, в землю Русскую, если будет на то Божья воля
-– спасешься”
[105; 363]. Перед самым побегом, согласно Ипатьевской летописи, встал “Игорь в
страхе и смятении, поклонился образу Божьему и кресту частному, говоря:
“Господи, в сердцах читающий! О, если бы ты спас меня, владыка, недостойного!”
[105; 363]. Летописец Ипатьевского списка заключает: "Принес ему господь
избавление это в пятницу вечером” [105; 363].
Этот подбор цитат
преследовал цель показать базовый и всеобщий характер христианского
мировосприятия в XII в. как обычной, устоявшейся системы в древнерусской
литературе, ставшей традицией. При этом следует заметить, что с точки зрения
исторической достоверности повествование в Ипатьевской летописи вызывает особое
доверие. Автор, видимо, собирал материалы от непосредственных очевидцев
описываемых событий. Поэтому приведенные летописцем речи действующих лиц,
вероятно, не только плод его фантазии. Хотя, как уже отмечалось, в
историко-культурологической реконструкции, не столь важна историческая правда
текстов, сколько выраженная в них ценностно-тематическая ментальность.
Обращаясь к “Слову о полку Игореве”, мы попадаем в другой мир, в котором
отсутствует христианская мистика и доминирует мистика языческая,
натуралистическая мистика природы. Если христианская душа дружинника или монаха
были в большой степени равнодушны к природе, пытаясь за ней усмотреть
божественное деяние, то "Слово полку Игореве"
-– это
произведение поэтического натурализма. В “Слове” исходной и конечной
реальностью выступает природа. За природой высшая трансцендентная реальность не
просматривается. "Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что от него тенью
все его войско покрыто” -
– так пишет автор “Слова” о солнечном затмении [105; 375]. ".
Вступил Игорь -
– князь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмой путь
преграждало, ночь стенаниями грозными птиц пробудила, свист звериный поднялся,
встрепенулся Див, кличет на вершине дерева и велит прислушаться чужой земле:
Волге, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутороканский идол"
[105; 375]. Не христианский Бог промыслил печальную судьбу похода князя Игоря
Святославича, потому что отсутствует осуждение в греховности как нравственной,
главной причине в поражении. Сама природа, натуралистический ход событий,
предопределил трагическую развязку: “Игорь к Дону войско ведет. Уже гибели его
ожидают птицы по дубравам, волки грозу навывают по яругам, орлы клекотом зверей
на кости зовут, лисицы брешут на червленые щиты" [105; 375]. Князья, бояре,
дружинники погружены в этот натуралистический мир, являются его действующими
субъектами.
Примечательно, узнав о поражении князя Игоря и нашествии половцев на Русскую
землю, князь Святослав, согласно "Слову", также не обращается к богу, а ищет
причину в деяниях Игоря и Всеволода: "О племянники мои, Игорь и Всеволод!
Рано вы начали Половецкую землю мечами терзать, а себе искать славу. Но не по
чести одолели, не по чести кровь поганых пролили" [105; 381]. В отличие от
христианской интерпретации, ищущей в божественном, трансцендентном мире
объяснение всего происходящего, в натуралистическом мире "Слова" субъекты
событий несут полную ответственность за свои деяния, без ссылки на бога.
В “Слове” читаем: "Всеслав
-– князь людям
суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком рыскал: из Киева до
рассвета дорыскивал до Тмуторокани, великому Хорсу волком путь перебегал" [105;
383, 385].
Полоцкий князь Всеслав Вячеславович, о котором в Ипатьевской летописи под
1044 г. сообщается: "Когда мать родила его, на голове его оказалась сорочка,
и сказали волхвы матери его: “Эту сорочку навяжи на него, пусть носит ее до
смерти”. И носит ее на себе Всеслав и до сего дня; оттого и не милостив на
кровопролитие" [104; 169]. В 1067 г. князья Изяслав, Святослав и Всеволод,
поцеловав крест чесной Всеславу, сказали ему: “Прейди к нам, не сотворим тебе
зла”. Когда он приехал к ним в ладье через Днепр, они, преступив
крестоцелованье, схватили его и посадили в темницу с двумя его сыновьями в
Киеве. В сентябре 1068 г. восставшие против Изяслава киевляне освободили
Всеслава и посадили в Киеве. Летописец пишет: "...Всеслава же явно избавил
крест чесной! Ибо в день Воздвижения Всеслав, вздохнув, сказал:" О крест
честной! Так как верил я в тебя, ты и избавил меня от темницы”. Бог же
показал силу креста в поученье земле Русской" [104; 187]. Таким образом, в
“Слове” последовательно убирается христианская сторона событий, характеров и,
напротив, существенно преувеличивается, умело поэтизируется сторона
языческая.
Ярославна в своем плаче призывает не Бога, богородицу, святых-заступников о
спасении своего мужа,
как главных божественных сил-ценностей. Она обращается к ветру, ветриле, Днепру
Славутичу, светлому и пресветлому солнцу. Следует заметить, что Дунай выступает
не просто собирательным образом реки. "На Дунае Ярославнин голос слышится,
чайкою неведомой она рано кличет". В украинском песенном фольклоре Дунай
представляет собой часто употребляемый, чрезвычайно сложный мифологический, еще
нераскрытый образ. Иногда он означает границу с иным миром, нередко загробным,
или сам этот мир. Во время побега из половецкого плена князь Игорь сказал реке
Донцу (опять же не Богу): “О Донец! Разве не мало тебе величия, что лелеял ты
князя на волнах, расстилал ему зеленую траву на своих серебряных берегах,
укрывал его теплыми туманами под сенью зеленого дерева..." [105; 387].
В “Слове о полку Игореве” христианские образы практически отсутствуют, лишь
трижды служат в качестве фона: "...Святополк бережно повез отца своего между
венгерскими иноходцами к святой Софии, к Киеву” [105; 377]. В другой раз, когда
автор “Слова” повествует о князе Всеславе-оборотне, пишет: “Ему в Полоцке
позвонили к заутрене рано у Святой Софии в колокола, а он в Киеве звон тот
слышал” [105; 385]. И в третий, когда князь Игорь уже в Русской земле "едет по
Боричеву к святой Богородице Пирогощей” [105; 387]. Лишь в заключении “Слова”,
в здравице, проявляется христианский мотив: "3дравы будьте, князья и дружина,
выступая за христиан против полков поганых! Князьям слава и дружине! Аминь"
[105; 387]. Примечательно, призыв “за христиан” является очень редким в
древнерусской литературе. Обычно, в трудную годину, например
, перед битвой,
говорили "за веру христианскую и церкви". В древнерусских былинах призыв “за
христиан” никогда не употребляется. Богатыри сражались "За веру христианскую,
церкви и князя Владимира". Лишь в былине “Илья Муромец и Батый Батыевич” князь
Владимир обращается к богатырю:
“Постарайся за веру христианскую
Не для меня, князя Володимира,
Не для-ради княгини Апраксии,
Не для церквей и монастырей,
А для бедных вдов и малых детей!” [21; 188].
В литературно-историческом анализе “Слово” часто сопоставляют с литературным
памятником конца XIV в. "Задонщиной". Действительно, бросается в глаза образное
и другое подобие
между ними. Вместе с тем, в отличие от “Слова” “Задонщина” не выпадает из
общего ряда русской литературы конца XIV
-– начала ХV вв.
В "Задонщине", как и в других памятниках русской литературы, победа и поражение
в битве определяется
божественным промыслом. Автор "Задонщины" старается раскрыть связь событийного
ряда подготовки к самой Куликовской битве с предопределением и божественным
волеизъявлением. Духовное напряжение сосредоточено в обнаружении промысла Бога.
Природные знамения получают существенно иное описание и истолкование: “Тогда
князь великий Дмитрий Иванович вступил в золотое свое стремя, сел на своего
борзого коня, и взял свой меч в правую руку, и помолился богу и пречистой его
матери. Солнце ему ясно на востоке сияет и путь указует, а Борис и Глеб молитву
возносят за сродников своих" [107; 103]. Молитва князя Дмитрия Ивановича
выражает искренний христианский порыв: "Господи
, боже мой, на тебя уповаю, да не будет на мне позора никогда, да не
посмеются надо мною враги мои!” И помолился он богу, и пречистой его матери, и
всем святым, и прослезился горько, и утер слезы" [107; 107]. В молитвах,
призывах, в обращениях перечисляются традиционно высшие ценности. "Положили вы
головы свои, -
– говорит князь Дмитрий Иванович,
-– за святые
церкви, за землю за Русскую и за веру христианскую" [107; 111]. Вместе с тем,
следует заметить, что тема "божественного промысла" в “Задонщине” выражена в
значительно меньшей степени, чем в “Летописной повести о Куликовской битве",
"Сказании о Мамаевом побоище", “Слове о житии великого князя Дмитрия Игоревича”
и др., что также свидетельствует о влиянии "Слова о полку Игореве".
Таким образом, возникает проблема культурологической оценки "Слова", которое
выступает как произведение другой эпохи. Она может быть двоякой. С одной
стороны, можно исходить из гениальности автора
, и его
творения, который, будучи, безусловно, христиански образованным человеком
(монахом или дружинником),
смог в поэтическом творчестве преодолеть традиционность средневекового
мировосприятия и столь талантливо реконструировать ушедшее в прошлое языческое.
Поэтому “Слово”, выпадая из общего ряда произведений литературы Киевской Руси,
не нашло должного отклика у современников, не было широко включено в систему
культуры, не получило распространения в читающей среде. Списков "Слова" было
немного.
Как известно, существует диаметрально противоположная оценка "Слова"
относительно немногочисленной групп
ы исследователей, которые рассматривают его как подделку, и проведенный
выше ценностно-тематический анализ добавляет к филологическим и
конкретно-историческим доказательствам обнаружения списка и его пропаже
культурологический аргумент
,
-–
"Слово" как литературн
ыйого памятник
а другой эпохи. Однако, на наш взгляд, и здесь возникает проблема
гениальности, гениальности подделки. Отсылка к гениальности методологически
означает прорыв, возможность чего-то, что непосредственно культурно-исторически
недетерминировано и как выражение обычных условий и обстоятельств невозможно.
При том уровне развития исторической, филологической и мифологической наук
, в конце XVIII
в.,
столь тонко "сделать" "Слово" представляется не меньшим достижением, чем
написать его в конце ХІІ в. Для автора настоящего исследования этот вопрос
остается открытым, вместе с тем
, следует
констатировать, что даже если исходить из подлинности "Слова"
, в деле культурологической реконструкции ценностно-тематического
пространства культуры Киевской Руси в конце XII
-– начале XIII
вв. использование его, с одной стороны, пока остается мало эффективным, а с
другой стороны, должно быть очень осторожным.
Прогрессирующий процесс феодальной раздробленности приводил к дальнейшему
размножению рассмотренной выше ценностно-тематической структуры во все более
меньших размерах удельных княжеств северо-восточной Руси. Таким образом,
ментальное пространство каждого княжества и культуры Киевской Руси в целом
генерируется двумя существенно различными ценностными источниками как двумя
полюсами магнита, языческой и христианской ФТС, что и обусловило
разорванность ценностно-тематического пространства культуры.
ГЛАВА III. ГЕНЕЗИС МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В XIV – XVI вв.
§1. Разрушение ценностно-мыслительного пространст
ва Киевской Руси второй половины XIII в.
Какое культурологическое значение имело татаро-монгольское нашествие на Русь?
Какое влияние оно оказало на развитие ценностно-мыслительного пространства
Киевской Руси?
Установление владычества золотоордынских ханов привело к существенной
трансформации древнерусского пространства, которая выразилась, с одной стороны,
в его окончательном распаде на три субпространственных образования
(юго-западную,
северо-восточную Русь, и Новгородо-псковские республики) и последующем делении
первых двух на множество более мелких миров, уделов-княжеств, а с другой – в
значительной перестройке фундаментальных тематических структур.
Предметом анализа этой главы станут культуро-творческие процессы северо-
восточного и северо-западного регионов распавшейся Киевской Руси как областей
становления русской культуры. Рассмотрение княжеско-удельного и
республиканско-городского регионов как ценностно-мыслительных систем, как
исходных составляющих формирования духа русского народа обусловлено
существенными различиями построения их тематических пространств.
Становление русской культуры происходило в процессе образования русского
централизованного государства, и охватывает период с середины XIII вплоть до
начала XVI в., в котором в свою очередь можно выделить этапы: когда преобладают
разрушительные явления в
духовном м
ентальном пространстве (вторая половина XIII в.), этап формирования
фундаментальных ценностно-тематических структур русской культуры по мере
возвышения московского княжества (XIV – первая половина XV в.) и этап
упрочения основных тематических структур русского Духа
стабилизации ценностно-ментального пространства в ходе генезиса русского
самодержавного государства во время правления Ивана III (вторая половина XV
в.). Последнюю границу можно отодвинуть до окончания царствования Ивана IV
Грозного, когда тематическое пространство русской культуры словно
"окостеневает", приобретает жесткую структуру. В целом правление Ивана IV
приобретает "осевое" значение. Внешним подтверждением тому является устойчивая
фиксация его в русском народном фольклоре. Переломные эпохи в истории культуры
порождают идейно-тематические "кусты" в народном фольклоре как относительно
целостные единства. Так, в русском народном творчестве имеют место три самых
больших "куста", связанных со святым Владимиром, Иваном Грозным и Петром I.
Установление владычества татаро-монгольских ханов нависло тяжелым духовным
гнетом и определило существенную перестройку ценностно-мыслительно
гой
структурыпространства
древнерусской культуры. В
ментальное пространство вошла тема "царя" как неотвратимой, непобедимой,
абсолютной силы власти золотоордынских ханов.
По нашему мнению, э
Это обстоятельство традиционно недостаточно учитывается историками,
культурологами и другими
учёными в исследованиях. После описания больших потерь во время
завоевательного похода татаро-монгол на Русь обычно констатируется, что
впоследствии татары ограничивались сбором дани, не занимались непосредственно
управлением завоеванных территорий, не
вмешивались в духовную и религиозную жизнь подчиненных народов, а после
получения московскими князьями права от Золотой Орды собирать дань и вовсе
установилась "тишина".
Абсолютная власть силы татаро-монгольского царя зловещим роком вошла в сознание
каждого славянина, парализуя волю и формируя рабскую психологию. Психическим
проявлением этой всемогущей силы власти было постоянное напряжение,
пронизывающее весь строй души и духовной культуры в целом, ощущение страха. "И
было видеть страшно и трепетно,
-– пишет
летописец в Лаврентиевской летописи,
-– как в
христианском роде страх, и сомнение, и несчастье распространялись" [106; 139].
Когда великий князь московский Дмитрий Иванович узнал о походе Мамая на Русь,
он в спасительной молитве сказал: "Ты же, господи, царь, владыка, светодатель,
не сотвори нам, господи, того, что отцам нашим сотворил, наведя на них и на их
города злого Батыя, ибо еще и сейчас, господи, тот страх и трепет великий в нас
живет" [107; 141].
Тема "страха"
Тема "страха", источником которой в конечном итоге была воля и произвол
татаро-монгольского хана ("царя"), составила важнейшую тему коллективного
бессознательного в формирующейся русской культуре вплоть до начала XVI в.,
когда междоусобицы золото-ордынских ханов и др., приведшие к распаду Золотой
Орды, повлекли за собой утрату неощутимого характера внешней угрозы.
''Княжество Московское постоянно усиливалось, его князья еще со времен Калиты
привыкали располагать полками князей подручных, убеждались все более и более в
своей силе, тогда как Орда видимо ослабевала вследствие внутренних смут и
усобиц, и ничтожные ханы, подчиненные могущественным вельможам, свергаемые ими,
теряли все более и более свое значение, переставали внушать страх. От страха
перед татарами начал отвыкать русский народ и потому, что со времен Калиты
перестал испытывать их нашествия и опустошения; возмужало целое поколение,
которому чужд был трепет отцов перед именем татарским",
-– отмечал С.М.
Соловьев, характеризуя период правления Дмитрия Донского [150; 2; 271]. Однако
, после Куликовской битвы был свирепый поход Тохтамыша. Дмитрий Донской,
не успев подготовится, бежал. Москва была разграблена, сожжена, множество людей
погибло. Атмосфера страха была восстановлена. "И кто из нас, братья,
-– восклицает
автор "Повести о нашествии Тохтамыша",
-– не
устрашится, видя такое смятение Русской земли!" [107; 203]. Страх перед
татарами глубоко сидел еще в сердце уже могущественного Ивана III. Послание
ростовского архиепископа Вассина Рыло Ивану III, увещевавшего русского
самодержца решительно выступить против хана Ахмата, хорошо передает паническое
состояние царя и в целом русского общества: "Отложи весь страх, будь силен
помощью господа, его властью и силой..." [108; 527]. "Вся кровь христианская
падет на тебя за то, что, выдавши христианство, бежишь прочь, бою с татарами не
поставивши и не бившись с ними; зачем боишься смерти? Не бессмертный ты
человек, смертный;
, а без року смерти нет ни человеку, ни птице, ни зверю
;.
дДай мне,
старику, войско в руки, увидишь, уклоню ли я лицо перед татарами!" [150; 3;
76]. Следует отметить существенное отличие страха перед татаро-монголами от
ощущения опасности, исходящей от набегов печенегов, половцев. Угроза последних
не была неотвратимой, не носила характера абсолютной, всеподавляющей силы. С
половцами на равных, с переменным успехом воевали древнерусские князья. Власть
татаро-монгол своей свирепой жестокостью тяжелым катком раздавила волю к
сопротивлению не только в народной массе, но и у князей, потому что малейший
протест подавлялся самым суровым образом. Например, после истребления в Твери в
1327 г. ханского посла Шевкала, или Щелкана
, и сопровождающих его людей было послано татарское войско, которое пожгло
города и села, вывело
в плен много людей, положив, по словам летописца, пустую всю землю Русскую.
Когда смоленский князь Иван Алексеевич не подчинился Орде и отказался
выплачивать дань, то хан Узбек в 1340 г. послал войско в Смоленское княжество и
опустошил его.
Татарские насилия получили религиозное объяснение. Основополагающей мыслительной
схемой древнерусского мировосприятия оставалось представление о
непосредственном и постоянном божественном участии в жизни людей,
трансцендентной причины всего происходящего. Поэтому все победы и успехи
рассматривались исключительно как знак божественной помощи и поддержки, а все
природные и социальные невзгоды и потрясения как возмездие за грехи. При этом
непосредственным носителем зла
, как исходной
сверхчувственной причины,
является дьявол, выступающий в качестве средства божественного наказания.
Татарские злодеяния, таким образом, происходили с санкции и по воле Бога,
сверхчувственным исполнителем которой являлся дьявол, направлявший татар. Или,
как в приведенном ниже отрывке, столь тяжелые всеобщие
испытанияиспытания,
обусловленные коллективной виной людей, которая и вызвала кару непосредственно
Бога, а индивидуальные проступки (княжеские усобицы, например) относятся к
компетенции дьявола и наказание менее сурово, носит локальный характер.
Наказание Бога есть испытание, ориентированное на добро. Дьявольское деяние
есть чистое зло. "Кто, братья, и отцы, и дети
, не восплачет,
-– пишет
летописец, -
– видя такое божье наказание всей Русской земле? За грехи наши бог
напустил на нас поганых; ведь бог
, в гневе своем
, приводит
иноплеменников на землю, чтобы побежденные ими люди обратились к нему, а
междоусобные войны бывают из-за наваждения дьявола. Ведь бог хочет не зла, но
добра людям, а дьявол радуется жестокому убийству и кровопролитию. А если
какая-нибудь земля согрешит, бог наказывает ее смертью, или голодом, или
нашествием поганых, или засухой, или сильным дождем, или пожаром, или иными
наказаниями, и нужно нам покаяться и жить, как велит бог, который говорит нам
устами пророка: "Обратитесь ко мне всем вашим сердцем, с постом, и плачем, и
стенанием". Если так сделаем, простятся нам все грехи. Но мы возвращаемся к
злодеяниям, как псы на свою блевотину, и как свинья постоянно валяется в
греховных нечистотах, так и мы живем. Поэтому и наказание приемлем от бога –
нашествие поганых по повелению бога за наши грехи" [106; 169]. Кара Бога
носит двоякий характер:
как наказание за грехи и как крайнее средство для наставления на путь
исправления. При описании взятия татарами Киева летописец пишет: "И стоял в
городе из-за наших грехов и несправедливости великий плач, а не радость. За
умножение беззаконий наших привел на нас бог поганых, не им покровительствуя,
но нас наказывая, чтобы мы воздержались от злых дел. Такими карами казнит нас
бог -
– нашествием поганых; ведь это бичь его, чтобы мы свернули с нашего
дурного пути" [106; 139].рассматривались, как абсолютное зло и будут в свое
время с необходимостью наказаны. Летописец о печальной судьбе половцев
замечает: "И мы слышали, что татары многие народы пленили: ясов, обезов,
касогов, и избили множество безбожных половцев, а других прогнали. И так
погибли половцы, убиваемые гневом бога и пречистой его матери. Ведь эти
окаянные половцы сотворили много зла Русской земле. Поэтому всемилостивый бог
хотел погубить и наказать безбожных сыновей Измаила, куманов, чтобы отомстить
за христианскую кровь; что и случилось с ними, беззаконными" [106; 133].
Произвол татаро-монгол создал атмосферу насилия как норму социального бытия,
которая приобрела всеобъемлющий характер. С.М. Соловьев приводит эпизод, как
татары водили русских князей (волынских и заднепровских) на поляков в 1287 г.:
"Князья, каждый на границе своей волости, встречали хана с напитками и дарами;
они боялись, что татары перебьют их и города возьмут себе. Этого не случилось,
но насилиям татарским в городах и по волости не было конца. Телебуга
отправившись в Польшу, оставил около Владимира отряд татар кормить любимых
коней своих; эти татары опустошили всю землю Владимирскую, не давали никому
выйти из города за съестными припасами: кто выедет, тот непременно будет или
убит, или схвачен, или ограблен, и от того в городе Владимире померло людей
бесчисленное множество. Пробывши десять дней в Польше, Телебуга на возвратном
пути остановился в Галицком княжестве на две недели и опустошил его так же, как
татары его опустошили Волынское" [150; 2; 199].
Потеря князьями своего лица
Жизнь не только личности, целого народа оказалась психически раздавленной.
Особенно деморализующее воздействие сила власти золото- ордынского царя,
татарские насилия и вызванный ими страх оказали на русских князей.
Древнерусские князья задавали, но и были носителями абсолютных ценностей
культуры Киевской Руси: власти, силы, славы, восточно-славянски понимаемой
доблести и др. Эти качества, которые они проявляли постоянно (можно сказать
ежедневно), казалось, были их незыблемым природным придатком со времен
Рюрика. Личность князя была неприкосновенной, абсолютной ценностью. Князья
умирали или естественной смертью, или погибали в бою. Физическое оскорбление
достоинства князя или его казнь были немыслимы в Киевской Руси. Несмотря на
постоянные ссоры, раздоры, усобицы, за всю историю Киевского государства было
лишь несколько случаев физического увечия или казни князя, которые вызвали
потрясение всего древнерусского общества и остались аномалиями. Все эти
ценности и основополагающий образец князя были разрушены Золотой Ордой. Можно
сказать, что князья потеряли свое лицо.
Владение князя своим уделом стало условным, зависело от воли и произвола
татаро-монгольского царя. Каждый князь должен был ездить с подарками в Золотую
Орду, демонстрируя свою зависимость, верноподданничество хану, терпеть, подобно
рабу, всяческие унижения и оскорбления. Ездить в Орду вынуждены были даже два
самых сильных и независимых князя Данил Романович Галицкий и Александр
Ярославович Невский. С.М. Соловьев так описывает издевательства и казнь
тверских князей Михаила и Александра в Золотой Орде. Князь Михаил, несмотря на
опасность, вызванную интригами московского князя Юрия, отправился в Орду. По
обычаю, отнес подарки всем князьям ординским, женам ханским, самому хану и
полтора месяца жил спокойно. Наконец хан Узбек вспомнил о деле и назначил суд.
Михаил защищался, но судьи стояли явно за Юрия и его сообщника татарина
Кавгадыя; причем последний был вместе и обвинителем, и судьею. Решение суда
было неопределенным (почти по Кафке). Однако у Михаила отобрали платье,
отобрали бояр, слуг и духовника, наложили на шею тяжелую колоду и повели за
ханом, который ехал на охоту; по ночам руки у Михаила забивали в колодки, и так
как он постоянно читал псалтырь, то отрок сидел перед ними и перелистывал
листы. Уже двадцать четыре дня Михаил терпел всякую нужду, как однажды Кавгадый
велел привести его на торг, созвал всех заимодавцев, велел поставить князя
перед собою на колени, величался и говорил много досадных слов Михаилу, около
него собралась большая толпа греков, немцев, Литвы и Руси, тогда один из
приближенных сказал ему: "Господин князь! Видишь, сколько народа стоит и
смотрит на твой позор, а прежде они слыхали, что ты был князем в земле своей.
Пошел бы ты в свою вежу". Михаил встал и пошел домой. С тех пор на глазах его
были всегда слезы, потому что он предугадывал свою участь. Прошел еще день, и
Михаил велел отпеть заутреню, причастился, исповедался, призвал своего сына
Константина, чтоб объявить последую свою волю... Когда Михаил перестал читать
псалтырь, вдруг вскочил отрок в вежу, бледный и едва мог выговорить: "Господин
князь! Идут от хана Кавгадый и князь Юрий Данилович со множеством народа прямо
к твоей веже!" Михаил тотчас встал и со вздохом сказал: "Знаю зачем идут, убить
меня", ¾ и послал сына своего Константина к ханше. Юрий и Кавгадый
отрядили к Михаилу в вежу убийц, а сами сошли с коней на торгу, потому что торг
был близко от вежи, на перелет камня. Убийцы (не палачи! ¾ В.М.)
вскочили в вежу, разогнали всех людей, схватили Михаила за колоду и ударили его
об стену так, что вежа проломилась; не смотря на то, Михаил вскочил на ноги, но
тогда бросилось на него множество убийц, повалили на землю и били пятами
нещадно, наконец один из них, именем Романец, выхватил большой нож, ударил им
Михаила в ребро и вырезал сердце. Вежу разграбили русь (выделено
¾ В.М.) и татары, тело мученика бросили нагое. Когда Юрию и Кавгадыю
дали знать, что Михаил уже убит, то они приехали к нему, и Кавгадый с сердцем
сказал Юрию: "Старший брат тебе место отца, чего же ты смотришь, что тело его
брошенное нагое?" Юрий велел своим прикрыть тело, потом положили его на доску
(! ¾ В.М.), доску привязали к телеге и перевезли в город Маджары. Здесь
гости, знавшие покойника, хотели прикрыть тело его дорогими тканями и поставить
в церкви с честью, со свечами, но бояре московские не дали им и поглядеть на
покойника и с бранью поставили его на хлеве со сторожами [150; 2; 215-216].
Детали поведения князя Юрия и московских бояр показательны по своей дикой, не
христианской жестокости. В 1339 г. оклеветанный уже Иваном Юрьевичем Калитой
тверской князь Александр Михайлович был осужден в Орде на смерть. Александр
вышел сам навстречу убийцам и был рознят по составам вместе с сыном Федором
Александровичем. Калита еще прежде уехал из Орды с великим пожалованием и с
честью (какой? ¾ В.М); сыновья его возвращались после смерти
Александровой, приехали в Москву с великой радостью и весельем, по словам
летописи [150; 2; 225-226].
В "Сказании об убиении в Орде князя Михаила Черниговского" описывается смерть
князя Михаила, отказавшегося пойти на компромисс с христианской верой: "И тут
приехали убийцы, соскочили с коней и, схватив Михаила и растянув ему руки,
начали бить его кулаками по сердцу. После этого повергли ниц на землю и стали
избивать его ногами. Так продолжалось долго. И вот некто, бывший прежде
христианином, а потом отвергшийся христианской веры и ставший поганым
законопреступником по имени Доман, отрезал голову святому мученику Михаилу и
отшвырнул ее прочь. После этого сказали Феодору: "Если ты поклонишься богам
нашим, то получишь все княжество князя своего". И ответил Феодор: "Княжения
не хочу и богам вашим не поклонюсь, а хочу пострадать за Христа, как и князь
мой!" Тогда начали мучать Феодора, как прежде Михаила, после чего отрезали
честную его голову. ...Святые же тела их повержены были псам на съедение. И
много дней лежали, однако божьею благодатью оставались невредимыми" [106;
235]. Русских князей в Орде не казнили, их резали, как свиней или баранов.
Если личность князя, его достоинство оказались раздавленными, то что можно
говорить о представителях других социальных слоев.
Таким образом, внешним фоном формирования ценностно-мыслительного
пространства русской культуры выступали: абсолютная сила власти хана (царя),
вакханалия насилия со стороны татар, отбрасывавших какое-либо правовое
регулирование, и представление о ценности личности и человеческой жизни, и
посеянный ими страх. Как и в предыдущей главе, мы ограничимся анализом
доминирующих тем как абсолютных ценностей, фундаментальных опор, определяющих
основополагающую структуру смыслового поля, метрику ментального пространства
культуры.
На наш взгляд, решением этой задачи в общем плане было бы отслеживание
изменения содержания и структуры доминирующих тем древнерусский культуры
эпохи Киевской Руси, которую, как отмечалось, составляют темы: "силы",
"вольницы", "рода", "добычи", "бога", а также "Русской земли".
Тема "силы''
Тема "силы" являлась одной из универсалий тематического пространства культуры
Киевской Руси. Ставка на силу, силовое решение оставалась нормой социальной
жизни, которая обеспечивала успех, придавала надежность социальному
положению. В отличие от западноевропейской культуры, важнейшим средством
построения пространства которой, его стабилизации выступал закон, в
древнерусской культуре, а затем и в русской эту функцию выполняла Сила. Одну
из фундаментальных основ (если не сказать главную опору) западноевропейской
культуры, начиная с Древней Греции, составлял Закон, абсолютная сила Закона,
власть Закона. В древнерусской культуре, а затем и в русской ¾ закон
Силы, власть Силы. Как уже отмечалось, в переходе от варварства к
цивилизации, в процессе культурообразования нет более важной проблемы, как
разрушить "силовое мышление" мифологического варварского сознания. Это
универсальный Вызов для всякой возникающей культуры. Можно сказать, что от
того, насколько удастся обществу подорвать древние корни дикого культа силы,
зависит плодотворность генезиса культуры. Универсальным ответом является
опора на Закон и высшие формы религии, открывшие царство чистого духа,
трансцендентного божественного бытия. Русской же культуре найти эффективный
Ответ не удалось вплоть до настоящего времени, что предопределило какой-то
перекошенный, химерообазный путь культурного развития, в котором нельзя
отыскать ни одного периода относительного благоденствия, "с человеческим
лицом". Даже периоды культурного взлета русского Духа всегда происходят на
фоне дикости, зверства, крови... как бы вопреки зловещему царству силы. Если
в период Киевской Руси культ силы как дионисийское начало выступал
проявлением языческих корней, природных сил носил жизнеутверждающий характер
а богатство природних ресурсов придавало ему смягченные формы, то татаро-
монгольское иго во второй половине XIII века превратило культ силы в культ
насилия как форму внешнего, противоестественного угнетения. А в условиях
постоянного грабежа, оттока природных богатств и произведенного продукта
насилие приняло более жесткие формы. Прежняя сила ушла. "Сила наших князей и
воевод исчезла" [106; 449] ¾ сожалеет Серапион Владимирский. Внешняя
атмосфера насилия, созданная татаро-монголами, постепенно
интериоризировалась, стала имманентным выражением внутреннего надломанного
духа и духовного пространства культуры.
Тема "рода"
Тема "рода" как универсальный способ восприятия, мира в терминах
кровнородственных отношений во второй половине XIII века разрушается, теряет
характер доминирующей темы. Если в культуре Киевской Руси "родовой" и
"силовой" способы мышления как проявления дохристианского мировосприятия,
подобно чашам весов, уравновешивали друг друга, что находило отражение в
отношениях между князьями, которые в своих усобицах как в формах силовых
взаимоотношений всегда исходили из представлений о коллективном владении
Русской землей и кровнородственным его распределении в рамках всего рода, то
после распада древнерусского государства разваливается разросшееся родовое
древо на множество ветвей, утрачивается сознание кровнородственного единства.
"В старой Киевской Руси XI ¾ XII вв., ¾ отмечает В.О.
Ключевский, ¾ мысль об общем нераздельном княжеском владении
признавалась нормой, основанием владыческих отношений даже между далекими
друг от друга по родству князьями. Троюродные, четвероюродные Ярославичи все
еще живо сознают себя членами одного владельческого рода, внуками единого
деда, которые должны владеть своей отчиной и дединой, Русской землей, сообща,
по очереди. Такой владельческой солидарности, мысли о нераздельном владении
не заметно в потомстве Всеволода и между близкими родственниками, братьями
двоюродными, и даже родными: несмотря на близкое родство свое, Всеволодовичи
спешат разделить свою вотчину на отдельные наследственные части. Внуки
Всеволода как будто скорее забыли своего деда, чем внуки Ярослава ¾
своего" [63; 1; 302].
Нарастание процесса феодальной раздробленности приводит к дальнейшей
партикуляризации мышления, к восприятию мира во все более частных категориях,
узких границах. Для князей в эпоху Киевской Руси характерно метавосприятие
Русской земли, туземского народа, как бы сверху, над. Это видение
утрачивается. На смену "рода" приходит "семья". Наследственные отношения
теперь ограничиваются рамками семьи. Границы удела определяют горизонт
княжеской семьи, расширить который может только сила. Аргумент силы и здесь
становится решающим. "Мы достигли того времени, ¾ пишет С.М.Соловьев,
¾ когда прежние понятия о праве старшинства исчезают; великие князья
показывают ясно, что они добиваются не старшинства, но силы. Каждый князь,
получив область Владимирскую, старается увеличить свою собственность, за счет
других княжеств. Но когда преобладание понятия о собствености, отдельности
владения заставляло каждого великого князя заботится только о самом себе, то
все остальные князья не могут уже боле доверять родственной связи, должны
также заботиться о самих себе, всеми средствами должны стараться приобрести
силу, потому что им оставалось на выбор: быть жертвою сильнейшего или других
сделать жертвами своей силы. Вот почему мы видим теперь восстания князей на
великого с попранием всех старинных прав, родовых отношений" [150; 2; 186].
Тема “вольницы”
Установление татаро-монгольского ига привело к исчезновению духа "вольницы"
Киевской Руси как доминирующей темы, который переполнял душу древнеруского
славянина, фина, тюрка и др., от холопа до князя. Дух "вольницы", как
глубинное мироощущение необъятного простора, раздолья, отсутствие жестокого
социального и духовного гнета (всегда можно было от него уйти в другую землю)
и развитой системы правовых ограничений, сети законодательства, варварской
свободы, был одним из живительных источников духовной культуры Киевской Руси,
придававший ей своеобразное очарование. Внешне неупорядоченный, безалаберный,
рационально неорганизованный образ жизни оказался уникальной реализацией в
истории мировой культуры стремления к свободе.
Подобной ценностно-мыслительной ориентации, как доминирующей темы, как
универсалии духовного пространства, ни в одной другой культуре мне обнаружить
не удавалось. Это мироощущение во второй половине XIII века исчезло. Оно как
бы ушло в коллективное бессознательное и осталось в виде щемящей тоски, как
ностальгии в русской культуре по безвозвратно утраченному празднику
натуралистической свободы, душевному простору. Как мы увидим ниже, строящееся
на насилии духовное пространство русской культуры в своем основании обнаружит
фундаментальный разлом между нарастающим тотальным деспотизмом и загнанным в
глубины бессознательного, "натуралистическим анархизмом". Этот духовный
конфликт будет частично "сниматься" устойчивой традицией к пьянству, а так же
в так называемой "колонизации", бегстве от гнета на окраины российского
государства, где не достает царский, чиновничий и помещичий гнет. Но
последние, как волки зайца, преследует "вольницу", неотступно вытесняя ее за
границы своего пространственного господства и таким образом стимулируя
дальнейшую "колонизацию".
Колонизация чаще всего имеет два источника: или перенаселенность метрополии
как в Древней Греции, или насилие, как бегство протестантов в Новый Свет от
религиозных притеснений. В России при постоянной нехватке трудовых ресурсов,
запустение центральных районов "колонизация" запредельных деспотическому
государству земель было испытанным способом бегства от тотального социального
и духовного насилия. Впоследствии "вольница" будет, подобно вспышке,
эпизододически возгораться в виде разбоев новгородских ушкуйников, в
крестьянских восстаниях, особенно, под предводительством .
С.Разина, образ которого являет собой яркий образец и воплощение духа
"вольницы", и Е. Пугачева, будет тлеть в среде разбойников. Дух "вольницы"
полноценно "живет" лишь в русских народных сказках, переполняет их, а в
русских народных песнях ¾ звучит с тоскливой грустью как ностальгия по
утраченной вольнице.
Тема "добычи"
Наряду с Силой и Добыча остается главной всепоглощающей страстью,
доминирующей темой как абсолютной ценностью, универсалией духовного
пространства. Добыча оказывается штурвалом направляющем применением Силы, и
не только Силы ¾ всех средств для достижения заветной цели. Абсолютный
характер "добычи" как доминирующей темы выражается в том, что нет другой
ценности, которая могла бы ограничить сферу ее приложения. Ни закон, ни
мораль, ни религия не создают ей препятствия. Только противостояние сил
уравновешивает, смиряет жажду Добычи. Тема "добычи"¾ сложная,
комплексная категория, смысловым стержнем которой является глубокая страсть к
наживе, ко всем формам материального богатства. Если в эпоху Киевской Руси
неутолимая жажда наживы прикрывалась спорами о старшинстве, что придавало
видимость справедливости, давало внешнее оправдание княжеским грабежам и
разбоям во время усобиц, то после установления татаро-монгольского ига
стремление к добыче не скрывается ни за какими моральными и религиозными
одеждами, а выступает в обнаженном виде, как самодостаточная ценность, не
требующая других оснований для своего оправдания. В атмосфере насилия Добыча
выступает как основополагающая норма социальной жизни. В северо-восточной
Руси получение добычи было возможно только за счет соседнего удельного
княжества. Поэтому показательно, что князья для увеличения силы активно
привлекали татар, как ранее половцев, не смущаясь тем, что сами наводят
разорение, страдания и гибель собратьям по вере и крови. Шкурный интерес
среди князей, безусловно, преобладал. Один из главных "патриотов" и
защитников северо-восточной Руси Александр Ярославович Невский в борьбе со
своим родным братом Андреем за Владимирскую землю, которому она досталась по
наследственному завещанию от отца Ярослава, в 1252 г. отправился в Орду к
сыну Батыя Сартану с жалобой на брата. Александр получил старшинство и привел
татар (один из первых!) под начальством Неврюя в Суздальскую землю. Андрей
при этой вести сказал: "Что это, господи! Покуда нам между собой сориться и
наводить друг на друга татар; лучше мне бежать в чужую землю, чем дружиться с
татарами и служить им". Собравши войско, он вышел против Неврюя, но был
разбит и бежал в Новгород, не был там принят и удалился в Швецию, где был
принят с честью. Татары взяли Переяславль, захватили здесь семейство
Ярослава, брата Андреева, убили его воеводу, попленили жителей и пошли назад
в Орду. Александр приехал княжить во Владимир [150; 2; 152]. Когда князь
Ярослав в 1270 г. был принужден новгородцами выехать из Новгорода, он стал
копить полки для похода на Новгород и обратился за помощью к татарскому хану.
Великий Новгород спас костромской князь Василий Ярославович, но, как замечает
С.М. Соловьев, не из сострадания к новгородцам, а из соперничества с братом
Ярославом, боясь усиления последнего. Он приехал в Орду и возвратил с дороги
татарскою рать [150; 2; 159]. Даже близкие родственные отношения не
сдерживают князей, когда стоит вопрос о Добыче, о расширении власти.
С.М. Соловьев описывает как значительно позже, в 1411 г., князь Даниил
Борисович, призвавши к себе какого-то татарского царевича Талыча, взял город
Владимир. "Татары и дружина Даниилова подкрались к городу в полдень, когда
все жители спали, захватили городское стадо, взяли посады и пожгли их, людей
побили множество. В соборной Богородичной церкви затворился ключарь,
священник Патрикий, родом грек; он забрал сколько мог сосудов церковных и
других вещей, снес все это в церковь, посадил там несколько людей, запер их,
сошел вниз, отбросил лестницы и стал молиться со слезами перед образом
богородицы. И вот татары прискакали к церкви... татары отбили двери, вошли,
ободрали икону богородицы и другие образа, ограбили всю церковь, а Патрикия
схватили и стали пытать: где остальная казна церковная и где люди, которые
были с ним вместе? Ставили его на огненную сковородку, втыкали щепы за ногти,
драли кожу ¾ Патрикий не сказал ни слова; тогда привязали его за ноги
к лошадиному хвосту и таким образом умертвили. Весь город после того был
пожжен и пограблен, жителей повели в плен; всей добычи татары не могли взять
с собою, так складывали в копны и жгли, а деньги делили мерками; колокола
растопились от пожару, город и окрестности наполнились трупами [150; 2; 347-
348]. "Ханский баскак Ахмат однажды заметил: "Князь Олег и родственник его,
князь Святослав... именем только князья, а на самом деле разбойники" [150; 2;
207]. Эту оценку можно отнести ко многим князьям.
Жажда добычи вытесняет на периферию ценностно-мыслительного пространства
культуры общерусские, общечеловеческие, религиозные ценности (представление о
народе, Русской земле, чести и справедливости, церкве и т.д.), которые теряют
абсолютный характер. Критерием различения доминирующей темы является
абсолютность предпочтения, безусловный приоритет выбора по сравнению с другими
темами ¾ ценностями, что и придает ей характер абсолютной ценности.
Доминирующее значение темы "добычи" существенно сужает горизонт мировосприятия.
Поэтому для нашего современного мировоззрения, в котором национальным,
общечеловеческим ценностям, определяющим построение ценностно-мыслительного
пространства современной культуры (народ, Родина, права человека и др.),
отдается очевидное предпочтение, кажется странным, когда в период Киевской Руси
или в XIII ¾ ХVI вв. какой-либо князь или царь (например, Владимир
Мономах, Андрей Боголюбский, Иван III, Иван IV),
безусловно, набожный, истинный христианин, раз
оряя землю своего соперника, избивает местное население, разрушает церкви. И,
что удивительно, все эти злодеяния воспринимаются всеми как норма, несмотря на
критику со стороны церковных деятелей. Впрочем, последним это не мешает давать
впоследствии высокую оценку тем же князьям и царям как христианнейшим, любимым
церковью.
Тема «бога»
Тема "бога” представляет собой сложное, понятийно разветвленное образование,
выражает нуминозную насыщенность духовной культуры в целом, особенности
религиозного сознания. Тема "бога" рассматриваемого периода охватывает
развитие христианских представлений в северо-восточной Руси, а также элементы
языческих мировосприятий.
Татаро-монгольское иго углубило разлом ментального пространства, возникший
еще в культуре Киевской Руси, который выражался в несовместимости,
противостоянии христианских ценностно-мыслительных ориентаций и строящейся
на насилии социальной жизни. Христианство к тому времени вошло в плоть и
кровь древнерусского славянина, определяло фундаментальную структуру его
мировосприятия и строй образа жизни. Это обстоятельство при описании
критических ситуаций в древнерусской литературе (в молитвах, клятвах, речах
перед битвой и др.) выражается в словах "за веру". С другой стороны,
оказалось, что жить в соответствии с христианскими требованиями в обществе,
пропитанном духом Насилия, Силы и Добычи, нельзя. Ментальный мир как бы
раскололся на две реальности: царство скверны (натурализма, силы, насилия и
наживы) и царство чистой духовности (умерщвления плоти, покаяния, стремления
к вечной жизни). Этот раскол прошел через душу каждого древнерусского
славянина. В древнерусских источниках князья подобны двуликому Янусу: с одной
стороны, глубоко верующие христиане, постоянно молящиеся о спасении души,
строящие церкви, сражающиеся за веру, церкви и христиан, с другой, подобно
диким варварам ради власти и наживы творят кровавые злодеяния, разрушают
города и церкви, избивают христиан и пр. Поэтому во второй половине XIII в. в
северо-восточной Руси становится достаточно массовым бегство от мерзости
окружающей жизни в монастыри.
Монастыри оставались мощным источником насыщения ментального пространства
культуры христианскими представлениями и переживаниями. Большая часть
монашества и вышедшего из него духовенства служили живыми образцами
христианской жизни. В древнерусской и русской культуре вплоть до петровских
времен примеры величия духа, духовного подвига, безупречного поведения
находим только и исключительно среди монашества и служителей церкви, когда
ради жизни вечной, высоких христианских идеалов приносилась в жертву
собственная жизнь. Примечательно, что среди князей, высшей социально-
политической элиты эпохи Киевской Руси, Московского государства вплоть до
ХVIII в. мы не находим примеров благородных поступков, не говоря уже о
безупречно прожитой жизни. Очевидно, что ни княгиня Ольга, ни Святослав, ни
Владимир, ни Ярослав, ни Владимир Мономах, ни Александр Невский, ни Дмитрий
Донской, ни др. уже таковыми примерами не являются. Жизнь и мученическая
смерть Бориса и Глеба, строгое монашеское подвижничество Печерского монаха
из князей Святоши, мученическая смерть черниговского князя Михаила за веру в
Орде являются образцами христианского служения, как воплощения христианского
идеала, христианских ценностей, но не княжеского идеала и ценностей.
И это вполне понятно. Здесь проходит существенное различие древнерусской,
русской и западноевропейской культур. Если высокая древнерусская, а
впоследствии и русская культура до XVIII в. строились только и исключительно
на христианском идеале, христианских ценностях (основные ценности княжеско-
дружинной субкультуры доблести, славы имели единственный источник ¾
силу), то ценностная палитра западноевропейской культуры оказывается
значительно богаче. В западноевропейской культуре в XII в, в эпоху расцвета
средневековья, получило мощное развитие рыцарское движение, основные ценности
которой носили светский характер.
Таким образом, во второй половине XIII в. в северо-восточной Руси получил
дальнейшее развитие языческий ценностно-тематический центр, как источник
натуралистически-силового субпространства развертывания, в то время как,
напротив, христианское субпространство относительно деградировало,
“схлопывалось”. Принимая во внимание, что всякая схема существенно упрощает
исследуемую проблему и материал, все-таки попытаемся схематически изобразить
языческую ФТС. Её можно представить в виде слоеной пирамиды: на вершине тема
"царя", (татарского “хана”, выступающая в качестве исходной "аксиомы"
тематического субпространства); татарский хан порождает атмосферу насилия и
страха, которая, в свою очередь, стимулирует развитие натурализма, силы и
добычи как абсолютных ценностей.
§2. Формирование фундаментальной тематической структуры русской культуры в
период возвышения Московского княжества (ХIV ¾ первая половина
ХV вв.)
Проанализированная в предыдущем параграфе пространственная конфигурация
составляет исходную структуру формирования ментального пространства русской
культуры, развитие которой будет прослежено в настоящем параграфе.
В распавшемся на множество миров-княжеств и разорванном натуралистическими и
христианскими ценностями ментальном пространстве культуры Киевской Руси,
когда татаро-монгольское иго задавало эмоционально-психологическую атмосферу
насилия и страха, наибольшую приспособленность показали московские князья.
"Как город новый и окрайный, ¾ отмечает В.О.Ключевский, ¾
Москва досталась одной из младших линий Всеволодова племени. Поэтому
московский князь не мог питать надежды дожить до старшинства и по очереди
занять старший великокняжеский стол. ...он должен был обеспечивать свое
положение иными средствами, независимо от родословных отношений, от очереди
старшинства. Благодаря тому московские князья рано вырабатывают своеобразную
политику, с первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и
решительнее других сходят с привычной колеи княжеских отношений, ищут новых
путей, не задумываясь над старинными счетами, над политическими преданиями и
приличиями" [62; 2; 12-13].
Если другие князья, например, тверские, во взаимоотношениях пытались
опереться на право старшинства, нравственные добродетели, сохраняли надежду
на успех в освободительной борьбе против татар (тверской князь Александр
Михайлович призывал русских князей "друг за друга и брат за брата стоять, а
татарам не выдавать и всем вместе противиться им, оборонять Русскую землю и
всех православных христиан”) [62; 2; 19], то московские князья, начиная с
Даниила, в борьбе за власть над удельными княжествами отбросили всякие
представления о добродетели и с жестким прагматизмом сделали ставку на силу.
Исторические источники до Дмитрия Донского не дают нам свидетельств в какой-
то мере добродетельного поступка или хотябы высказывания какого-либо из
московских князей. Напротив, сохранилось множество примеров их коварства,
хитрости, предательства, нехристианской жестокости, раболепия перед татарами,
выступавших как норма поведения, как добродетель. В.О. Ключевский выделяет
пять главных способов, которыми пользовались московские князья для расширения
своего княжества: это были скупка, захват вооруженный, захват
дипломатический с помощью Орды, служебный договор с удельным князем и
расселение из московских владений за Волгу.
Московский князь и золото-ордынский хан
Взаимоотношения московских князей с Золотой Ордой требуют специального
рассмотрения и культурологической оценки. Татары ввели в формирующуюсяся
русскую культуру представление о хане как царе, неограниченная власть
которого является выражением сконцентрированной в нем абсолютной силы и
строится на его произволе. Царь стоит по ту сторону добра и зла, по ту
сторону закона. Всякое его деяние есть добродетель, закон для подданных,
которые, подобно рабам, в той или иной степени зависят от его волеизъявления.
В Киевской Руси великий князь, безусловно, таким статусом не обладал. В
письменных источниках второй половины XIII – ХIV в.в. слово "царь"
употребляется только применительно к татарскому хану, выступает как синоним
слова "хан". Автор "Жития Александра Невского", оправдывая неблаговидный
поступок своего героя по отношению к родному брату, пишет: "Решил князь
Александр пойти к царю в Орду, и благословил его епископ Кирилл. И увидел его
царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: "Истину мне сказали, что
нет князя, подобного ему". Почтив же его достойно, он отпустил Александра.
После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его Андрея и послал
воеводу своего Неврюя разорить землю Суздальскую" [106; 435; 437]. В "Повести
о нашествии Тохтамыша" читаем: "Когда князь великий услышал весть о том, что
идет на него сам царь во множестве сил своих, то начал собирать воинов, и
составлять полки свои, и выехал из города Москвы, чтобы пойти против татар"
[107; 193]. Когда же князья, воеводы и советники не захотели помогать друг
другу," то поняв, и уразумев, и рассмотрев, благоверный князь пришел в
недоумение и в раздумье великое и побоялся встать против самого царя. И не
пошел на бой против него, и не поднял руки на царя, но поехал в город свой
Переяславль" [107; 193].
В ментальном пространстве русской культуры слово “царь” византийского
происхождения содержательное наполнение получило под татарским влиянием. В
строящейся на насилии, а не на законе, как в западноевропейской культуре,
системе управления Золотой Орды, в орбиту влияния которой входила и северо-
восточная Русь, установились отношения рабской зависимости низших этажей
власти по отношению к высшим. В отличие от западноевропейской средневековой
культуры, складывающейся преимущественно на правовых отношениях, когда с
одной стороны постепенно очерчиваются границы компетенции властных структур,
а с другой ¾ обеспечиваются определенные гарантии безопасности
зависимых субъектов правовых отношений, в государстве золото-ордынских ханов
имела место лишь иерархия отношений подчинения, в которую вынуждено было
встраиваться и древнерусское население. На вершине этой пирамиды насилия
стоял хан (царь). Частое употребление в литературных памятниках этого
периода выражения "сам царь", авторами которых большей частью были
отстраненные от общественной жизни монахи, свидетельствует о глубоком
внедрении в русское общественное сознание идеи абсолютной Власти-Силы татаро-
монгольского царя.
Русские князья оказались включенными в территориальную систему управления
Золотой Орды не в качестве вассалов, поскольку вассальные отношения
предполагают законодательно закрепленные взаимные обязательства, в явном виде
фиксирующие права и обязанности, суверинитет каждой из сторон, а слуг,
поскольку служебные отношения не предполагают ни гарантий прав личности и
собственности, ни наличия каких-либо обязательств с ханской стороны.
''.княжества тогдашней Северной Руси, – пишет В.О. Ключевский, ¾ были
не самостоятельные владения, а даннические “улусы” татар, их князья звались
холопами “вольного царя”, как величали у нас ордынского хана'' [62; 2; 41].
Жизнь и владения князя целиком и полностью зависели от ханского
произвола.Так, когда тверской князь Димитрий, надеясь на благоволение хана,
убил московского князя Юрия, хан Узбек, однако, сильно рассердился на это
самоуправство, долго думал, наконец велел убить Димитрия (1325 г.), но
великое княжение отдал его брату Александру [150; 2; 217-218]. Когда
тверскому князю Михаилу в Орде наложили на шею тяжелую колоду, то татарин
Кавгадый сказал ему: "Михайло! Таков ханский обычай: если хан рассердится на
кого и из родственников своих, то также велит держать его в колодке, а
потом, когда гнев минет, то возвращает ему прежнюю честь [150; 2; 215-216].
Как известно, князь Михаил вскоре был убит в Орде. Подтверждением зависимого
положения русских князей от золото-ордынского хана также является поездка их
всех в Орду после смерти Ивана Калиты.
Московские князья, начиная с Даниила, стали инициаторами движения укрепления
связей с Золотой Ордой, стремясь использовать силу татаро-монгольского хана
для расширения своего влияния в междуусобной борьбе. Уже Юрий Данилович сумел
сблизиться с семейством хана и женился на его сестре, Кончаке, которую при
крещении назвали Агафьей. Ханский зять возвратился на Русь с сильными послами
татарскими, из которых главным был Кавгадый [150; 2; 213]. Завоевав
доверие хана Узбека, Иван Данилович Калита еще более укрепил отношения с
Ордой. "Они пока не думали, ¾ замечает В.О. Ключевский, ¾ о
борьбе с татарами... Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к хану, и
там он был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми
руками [62; 2; 197].
Возвышение Московского княжества было обусловлено не стечением благоприятных
социально-экономических, политических и других обстоятельств, а, напротив,
как убедительно показал А.А.Зимин, вопреки им. Москва не обладала удобным
географическим положением, поскольку никаких "удобных" путей в районе Москвы
не существовало. Московское княжество сложилось на территории, обладавшей
сравнительно скудными природными ресурсами. Здесь относительно мало было
хлебородной земли. Не был Московский край и сосредоточием каких-либо
промыслов. В районах, прилегающих к Москве, не было никаких богатств - ни
ископаемых, ни соляных колодязей, ни дремучих лесов. Дорогостоящий пушной
зверь был выбит [53; 191-198]. Это обстоятельство отмечает С. Герберштейн:
''Область Московская не отличается ни пространностью ни плодородием;
плодоносности препятствует главным образом ее нежная повсюду почва, в которой
посевы погибают при незначительном избытке сухости или влаги'' [34; 129].
Поэтому в эпоху произвола и насилия московские князья и бояре для достижения
своих целей сделали ставку на Силу. Заручившись поддержкой золото-ордынского
царя, и, таким образом, умножив свои силы, они значительно расширили свои
владения.
Два мифа в русской истории
Обращаясь к анализу периода возникновения русской культуры, сталкиваешься с
двумя мифами, которые препятствуют выявлению ценностно-мыслительных
детерминант ментального пространства культуры, ¾ это миф о "собирании
русских земель вокруг Москвы" и миф о "тишине", установившейся в Русской
земле в результате их объединения. Выражение "собирание русских земель вокруг
Москвы" предполагает по меньшей мере две неявные смысловые посылки: во-
первых, наличие глубоко патриотических конечных целей освобождения от татаро-
монгольского ига, и, во-вторых, бережное отношение московских правителей к
субъектам объединения, всеобщую поддержку этого процесса.
Анализ письменных источников показывает, что, с одной стороны, именно
антипатриотическая деятельность московских князей до Дмитрия Донского явилась
важнейшим условием достижения успеха возвышения Московского княжества. Это
обстоятельство четко фиксируют и сторонники мифа "собирания", например, С.М.
Соловьев, В.О. Ключевский и др. С другой строны, отслеживание процесса
присоединения удельных княжеств к Москве показывает, что он представляет
собой череду разбойных захватов, завоеваний, сопровождавшихся разрушениями,
кровопролитием, насилиями. Поэтому, представляется, более уместным было бы
здесь говорить о захвате, завоевании, подчинении. "Первый московский князь
Александрова племени, Даниил, по рассказу летописца. врасплох напал на своего
рязанского соседа князя Константина, победил его "некоей хитростью", т.е.
обманом, взял его в плен и отнял у него Коломну" [62; 2; 13].
"...Юрий московский начал стремиться к усилению своей волости, не разбирая
средств: он убил рязанского князя, плененного отцом его Даниилом, и удержал
за собою Коломну" [150; 2; 210]. "В 1368 году великий князь Димитрий и
митрополит Алексей зазвали ласкою к себе в Москву князя Михаила на третейский
суд; после этого суда тверского князя схватили вместе со всеми боярами и
посадили в заключение, но вдруг узнали о неожиданном приезде трех князей
ордынских. Этот приезд напугал врагов Михаила, и они выпустили его на
свободу... в августе 1370 года... сам великий князь Димитрий явился в
тверских владениях с большою силою, взял и пожег города ¾ Зубцов,
Микулин, пожег также все волости и села, а людей многое множество вывел в
свою землю со всем их богатством и скотом" [150; 2; 260-262]. Подобные
примеры можно было бы без труда продолжить.
Безусловно, установление и постепенное укрепление единовластия московских
князей имело благоприятные последствия ¾ избавление от внутренних
усобиц и внешней угрозы татарских походов, которые несли большие разрушения и
людские потери. Однако, утверждение о нормализации внутренней жизни,
установлении правового порядка, представляется, было бы неоправданным, явной
модернизацией, представлением желаемого за действительное. "Тишина" была
весьма относительной. Установление "тишины" не означало прекращение насилия.
Насилие не только не ослабевало, но получило дальнейшее своеобразное развитие
как развертывание московского насилия.
Московское насилие
На смену татарскому насилию пришло московское насилие. "Начало княжения
Калиты было, по выражению летописца, началом насилия для других княжеств, где
московский собственник распоряжался своевольно. Горькая участь, ¾
восклицает С.М. Соловьев, ¾ постигла знаменитый Ростов Великий..."
[150; 2; 226]. Реалистическую картину бедствий ростовчан, в том числе
родителей Сергия Радонежского, мы находим в "Житии Сергия Радонежского":
"Этот ранее названный раб божий Кирилл прежде обладал большим имением в
Ростовской области, был он боярином, одним из славных и известных бояр,
владел большим богатством, но к концу жизни в старости обнищал и впал в
бедность. Скажем и о том, как и почему он обнищал: из-за частых хождений с
князем в Орду, из-за частых набегов татарских на Русь, из-за частых посольств
татарских, из-за многих даней тяжких и сборов ордынских, из-за частого
недостатка в хлебе. Но хуже всех этих бед было в то время великое нашествие
татар во главе с Федорчуком Туралыком, и после него год продолжалось насилие,
потому что княжение великое досталось князю великому Ивану Даниловичу, и
княжение Ростовское также отошло к Москве. Увы, плохо тогда было городу
Ростову, а особенно князьям ростовским, так как отнята была у них власть, и
княжество, и имущество, и честь, и слава, и все прочее отошло к Москве.
Тогда по повелению великого князя был послан и выехал из Москвы в Ростов
воеводой один из вельмож по имени Василий, по прозвищу Кочева и с ним Мина. И
когда они вошли в город Ростов, то принесли великое несчастье в город и всем
живущим в нем, и многие гонения в Ростове умножились. И многие из ростовцев
москвичам имущество свое поневоле отдавали, а сами вместо этого удары по
телам своим с укором получали и с пустыми руками уходили, являя собой образ
крайнего бедствия, так как не только имущества лишились, но удары по телу
своему получали и со следами побоев печально ходили и терпели это. Да к чему
много говорить? Так осмелели в Ростове москвичи, что и самого
градоначальника, старейшего боярина ростовского по имени Аверкий повесили
вниз головой, и подняли на него руки свои, и оставили, надругавшись. И страх
великий объял всех, кто видел и слышал это, не только в Ростове, но и во всех
окрестностях его" [107; 289; 291].
"По смерти Александра, ¾ пишет С.М. Соловьев, ¾ и Тверь не
избежала насилий московских: Калита велел снять от св. Спаса колокол и
привезти в Москву ¾ насилие очень чувствительное по тогдашним понятиям
о колоколе вообще, и особенно о колоколе главной церкви в городе" [150; 2;
227]. Симеон, рассматривая город Торжок как свою собственность, послал туда за
сбором дани, причем сборщики стали притеснять жителей. Новоторжцы возмутились
и послали просить помощи у новгородцев, между тем последние послали в Москву
сказать Симеону: ” Ты еще не сел у нас на княжении, а уже бояре твои
насильничают" [150; 2; 241].
Москва стала эпицентром распространения насилия. По мере присоединения, а
точнее, захвата новых земель расширялось пространство московского насилия,
прежде всего наместников, московских бояр, которые разбойничали подобно
татарским баскакам. В целом система московского управления складывалась по
аналогии с татарской ¾ на основе жесткого подчинения. Новая
"московская администрация" навязывалась сверху из Москвы. Она подчинялась
только великому князю. Местное население фактически было лишено права голоса.
Происходило как бы замещение власти татарского хана властью московского
великого князя. По мере усиления последнего влияние Орды становилось все
более опосредованным. Эта замена татарского насилия московским для
немосковского населения существенного улучшения не принесла. Напротив,
поскольку в отличие от татарских баскаков, занимавшихся только сбором дани,
московские бояре-наместники сконцентрировали в своих руках всю полноту власти
на местах, и насилие приняло еще более систематический, всесторонний,
неотвратимый характер. Рассказывая о возвращении Калиты от хана в 1328 г. с
пожалованием, летописец прибавляет: “... оттоле тишина велика по всей
Русской земле на сорок лет и пересташе татарове воевати землю Русскую"
[62; 2; 20]. Эта ретроспективная оценка летописца свидетельствует о том, что
внутреннее московское насилие во второй половине ХIУ века стало незаметным,
превратилось в норму русской обыденной жизни.
Таким образом, разрушение мифов о "собирательстве" и "тишине" открывает
существенную особенность становления ментального пространства русской
культуры, остающуюся, как правило, за пределами внимания исследователей:
возвышение Москвы положило начало раскручиванию маховика насилия, которое
наполнило все ценностно-мыслительное пространство формирующейся русской
культуры.
Куликовская битва
Примечательным событием в развитии ментального пространства русской культуры
стала подготовка и сама Куликовская битва. Этот непродолжительный период
можно было бы назвать бытием в пограничной ситуации, временем очищения,
подъема, предельной мобилизации формирующегося национального духа. Для
освобождения от татаро-монгольского ига были собраны все силы, которые
включали не только людские ресурсы, северо-восточной Руси. "От начала мира не
бывало такой силы русской, ¾ пишет летописец, ¾ князей русских,
как при этом князе [107; 117]. Сознание правоты своего дела, непосредственной
поддержки божественных сил составляли главную опору русских людей. Князь
Дмитрий Иванович перед битвой воззрев на небо с мольбою и преисполнивший
скорби сказал словами псалма: “Братья, бог нам прибежище и сила" [107; 123].
Автор "Сказания о Мамаевом побоище" пишет: "Это мы слышали от верного
очевидца, который находился в полку Владимира Андреевича; он поведал великому
князю, говоря: “в шестой час этого дня видел я, как над вами разверзлось
небо, из которого вышло облако, будто багряная заря над войском великого
князя, скользя низко. Облако же то было наполнено руками человеческими, и те
руки распростерлись над великим полком как бы проведенчески или пророчески. В
седьмой час дня облако то много венцов держало и опустило их на войско, на
головы христиан” [107; 177]. Вступая в битву из засады. Дмитрий Боброк
Волынец сказал: “Братья моя, друзья, смелее: сила святого духа помогает нам”
[107; 179].
Русским полкам противостояла огромная мощь татарского войска. Обращаясь к
послам Ольгерда Литовского и Олега Рязанского, Мамай сказал: “Мне ведь ваша
помощь не очень нужна: если бы я теперь пожелал, то своею силою великою я бы
и древний Иерусалим покорил, как прежде халдеи” [107; 139]. В "силовом"
мышлении той эпохи невиданная ранее концентрация сил на Куликовом поле
выступала как апофеоз Силы, принявший впервые за период возвышения
Московского княжества патриотический, общенациональный характер. “И тотчас
сошлись на многие часы обе силы великие, ¾ пишет летописец, ¾ и
покрыли полки поле верст на десять ¾ такое было множество воинов. И
была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный; от сотворения
мира не было такой битвы у русских великих князей, как при этом великом
князе всея Руси. Когда бились они, от шестого часа до девятого, словно дождь
из тучи, лилась кровь и русских сынов, и поганых, и бесчисленное множество
пало мертвыми с обеих сторон. И много руси было побито татарами, и татар
¾ русью. И падал труп на труп, падало тело татарское на тело
христианское" [107; 123].
В этой битве проявилось непосредственное участие в событиях божественной
реальности, которая, как полагали, и явилась решающей силой в победе
русского оружия. "Видели благочестивые в девятом часу, как ангелы, сражаясь,
помогали христианам, и святых мучеников полк, и воина Георгия, и славного
Дмитрия, и великих князей тезоименных ¾ Бориса и Глеба. Среди них был
и воевода совершенного полка небесных воинов ¾ архистратиг Михаил.
Двое воевод видели полки поганых, и три солнечный полк, и огненные стрелы,
летящие на них; безбожные же татары падали, объятые страхом божьим от оружия
христианского. И воздвиг бог десницу нашего князя на одоление
иноплеменников”. [107; 125]. Примечательно, что в битве были задействованы
все небесные силы: ангелы во главе с архангелом Михаилом, мученики, святые, в
том числе Борис и Глеб. С распадом ментального пространства культуры Киевской
Руси северо-восточная Русь осталась без главных святынь, которые питали
преимущественно Киевскую землю. Поэтому становление русской культуры, центром
которой стала Москва, не имеющая больших религиозных традиций,
сопровождалось формированием пантеона святых, мучеников, имеющих местные
корни. Киевские святыни как бы отошли на второй план. В отличие от киевских
святых, обязанных поклонением прежде всего своим личным достоинствам,
безупречному поведению и силе духа (Борис и Глеб, святые Антоний и Феодосий,
печерские монахи и др.), московские святые возвышаются главным образом своими
державными добродетелями, "работе" на Московское государство (московские
митрополиты, Александр Невский, Дмитрий Донской и др.).
Куликовские события всколыхнули ментальное пространство русской культуры,
подняв из глубин образы культуры Киевской Руси. "Вспомним давние времена,
¾ читаем в “Задонщине” ¾ восхвалим вещего Бояна, искусного
гусляра в Киеве. Тот ведь вещий Боян, перебирая быстрыми своими перстами
живые струны, пел русским князьям славы: первую славу великому князю
киевскому Игорю Рюриковичу, вторую – великому князю Владимиру Святославичу
Киевскому, третью ¾ великому князю Ярославу Владимировичу” [107; 99].
В этом стремительном духовном порыве люди ощутили неизвестное ранее единство
духовного подъема, общность судеб. Впервые со времен образования Киевского
государства великий князь, обращаясь к своему войску, называет своих воинов
братьями. Окончив молитву и сев на коня своего, Дмитрий Иванович стал по
полкам ездить с князьями и воеводами и каждому полку говорил: "Братья мои
милые, сыны русские, все от мала до великого! Уже, братья, ночь наступила, и
день грозный приблизился ¾ в эту ночь бдите и молитесь, мужайтесь и
крепитесь, господь с нами, сильный в битвах" [107; 167]. Перед самой битвой
великий князь Дмитрий Иванович поехал по полкам и говорил в великой печали
сердца своего, и слезы потоками текли из очей его:”Отцы и братья мои,
господа ради сражайтесь и святых ради церквей и веры ради христианской, ибо
эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная” [107; 171].
Куликовская битва явилась военным выражением противоборства двух культур:
русской и татарской, и показала равновесие их противостояния. У русских,
победителей, из более чем четырехсот тысяч человек осталось в живых сорок
тысяч. "Страшно и горестно, братья, ¾ пишет автор ”Задонщины”,
¾ было в то время смотреть: лежат трупы христианские, словно сенные
стога у Дона великого на берегу, а Дон-река три дня кровью текла” [107; 111].
После Куликовской битвы был поход Тохтамыша на Москву и татарское влияние
было восстановлено. "Не только же одна Москва взята была, но и прочие города
и земли пленены были... И кто из нас, братья, ¾ восклицает автор
"Повести о нашествии Тохтамыша” ¾ не устрашится, видя такое смятение
Русской земли!” [107; 209].
Эволюция темы ''Русская земля''
Примечательна эволюция содержания понятия "Русская земля". С образованием
государства Киевская Русь словосочетание "Русская земля" в XI веке
употребляется в трех основных значениях: во-первых, как некое множество
земель, находящихся в коллективном владении рода княжеского, который с них
собирает дань: во-вторых, ¾ как синоним понятия "Киевская Русь",
древнерусское государство; в-третьих, ¾ как одна из основных
абстракций, обозначающая совокупность людей христиан, проживающих на этой
территории, городов, церквей, лесов, рек и т.п., тоесть всего того, что имеет
место на контролируемом князьями пространстве. По мере нарастания феодальной
раздробленности в XII – первой половине XIII века объем понятия “Русская
земля” сужается до территории первоначального ядра Киевской Руси – Киевского,
Черниговского и Переяславского княжеств. Во второй половине XIII века
вследствие дальнейшего дробления Руси на уделы термин “Русская земля” почти
выходит из употребления.
По мере возвышения Московского княжества , начиная с Ивана Калиты, московские
великие князья и их сторонники начали активно использовать словосочетание
“Русская земля” для обозначения, с одной стороны, совокупности уже
присоединенных к Москве земель, составляющих их собственность, а с другой
¾ всех земель северо-восточной Руси.
Получив от Орды ярлык на великое княжение и право сбора для татар дани со
всей Руси, московские князья выступили в качестве представителей всей Русской
земли. Между тем, татары отождествляли слово “Русская земля”, “Русь” с
северо-восточной Русью. Когда Мамай перешел Волгу со всеми своими силами, то
сказал воинам: “Пойдем на Русскую землю и разбогатеем от русского золота!”
[107; 135]. По свидетельству летописца, Мамай “начал злой заговор плести,
созывать своих поганых темников-князей и сказал им: “Пойдем на русского князя
и на всю землю Русскую.” [107; 113]. Те же князья, которые враждовали с
Москвой, к Русской земле себя не относили . Например, князь Олег Рязанский
писал Мамаю в грамоте : “Слышал я, господин, что хочешь идти на Русскую
землю, на своего слугу князя Димитрия Ивановича Московского, устрашить его
хочешь” [107; 135]. Автор ”Повести о нашествии Тохтамыша” пишет: ”А князь
Олег Рязанский встретил царя Тохтамыша, когда он еще не вступил в землю
Рязанскую, и бил ему челом, и стал ему помощником в одолении Руси, и
пособником на пакость христианам” [107; 191].
Князь Дмитрий Донской, в свою очередь, относился к Рязанской земле и
населявшим ее людям как к чужой территории. ”По прошествии же нескольких дней
князь Дмитрий послал свою рать на князя Олега Рязанского. Олег же с небольшой
дружиной едва спасся бегством, а землю его Рязанскую всю захватили и разорили
¾ страшнее ему было, чем татарская рать” [107; 206; 207]. О
справедливости возмездия, христианском милосердии и сострадании московитов по
отношению к рязанцам–христианам речи никакой не ведется.
В произведениях о Куликовой битве слова ”Русь”, ”Русская земля”
употребляются русскими воинами в смысле Родины, Отечества, в защиту которого
они мужественно приняли бой. ”И слышно было – восклицает летописец, ¾
рыданье безысходное..,ибо пошли с великим князем на острые копья за всю землю
Русскую!” [107; 119].
В литературе о Дмитрии Донском послекуликовского периода в терминологическом
значении ”Русской земли” на первый план выходит Русская земля как
собственность, как отчина московского князя. После описания битвы на реке
Воже автор ”Слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича” пишет: ”.и
возвратился Дмитрий с великой победой . И так вот защищал он Русскую землю,
отчину свою” [107; 211]. В том же ”Слове о житии.” сообщается, что князь
Дмитрий Иванович перед смертью, ”призвав сначала сына своего старшего, князя
Василия, на старейший путь, передал в руки его великое княжение – стол отца
его, и деда, и прадеда, со всеми пошлинами, и передал ему отчину свою –
Русскую землю” [107; 219]. В плаче о смерти своего мужа Дмитрия Донского
княгиня восклицает: ”Господином всей земли Русской был – ныне же мертв
лежишь, никем не владеешь!” [107; 221]. Любопытно, что при употреблении
понятий ”Русь”,”Русская земля” постоянно имеет место смешение их объемов:
узкого, как совокупности владений московского князя, которые он в завещании
передает своим наследникам, и широкого, чаще всего фиксируемого в титуле
”всея Руси”, выражающего его претензии не только на власть, но и на владение
как отчиной во всей северо-восточной земле, в том числе и на земли, которые
ему формально не принадлежали (например, Новгородские, Псковские и др.
земли).
Тема ''царя''
Победы на реке Воже и Куликовском поле обнаружили сокровенные цели московских
князей, которые до этого времени скрывались, держались в уме, ¾ это
претензии на царский титул. Как в сообщающихся сосудах, ослабление власти
Золотой Орды сопровождалось усилением власти московского князя. По мере
возвышения последнего к нему стал переходить и титул царя от ордынского хана.
Ретроспективное описание куликовскоих событий автором ”Слова о житии.”,
датируемым приблизительно серединой ХV века, так выражается в ответе князей и
бояр на призыв великого князя Дмитрия Московского встать на защиту Русской
земли: ”Господин наш русский царь! Обещали мы, служа тебе, жизнь свою отдать,
и ныне ради тебя кровь свою прольем и своею кровью второе крещение примем”
[107; 213].
Конец ХIV – первая половина XV века прошли под знаком зарождения и развития
фундаментальной ценности, центральной темы русской культуры – темы ”русского
царя”. Этому не могла помешать, а может быть, напротив, способствовала
феодальная война 30-х – 50-х годов XV века между московским князем Василием
II и галицкими князьями за великокняжеский стол. Машина по раскручиванию идеи
московской власти как царской, созданию и внедрению в общественное сознание
культа московского царя помимо воли людей включалась в работу, набирая все
большие обороты. “Когда же уснул вечным сном великий царь земли Русской –
Дмитрий, воздух взмутился, и земля тряслась, и люди пришли в смятение” [107;
223]. Уже в это неблагоприятное для становления самодержавия время культ царя
набирает в московских владениях вселенские масштабы: “Без колебаний скажу о
нем (Дмитрии Донском – В.М.), что по всей земле пронеслась слава его и в
концы вселенной – величие его” [107; 227].
Примечательно, что определяющим смысловым моментом становящейся доминирующей
темы “царя” в русской культуре выступают: абсолютная Сила (преодолев
абсолютную мощь войска татарского царя, московский князь продемонстрировал
обладание ею) и абсолютная Власть, никем не ограниченная. Генезис темы “царя”
происходил стихийно, как бы сам собой, помимо какой-либо работы по ее
правовому обоснованию и регуляции. Однако, пока тема “царя” еще не получила
религиозного освящения, религиозного характера. Таким образом, четко
прослеживаются татарские корни в формировании самодержавия в русской
культуре. В этой связи С.М. Соловьев справедливо отмечает: “Самый большой
почет в формах дипломатических сношений, даже в ущерб двору московскому.
оказывался хану крымскому; здесь действовало кроме сознания пользы крымского
союза еще предание о прежних недавних отношениях к татарским ханам; предание
это было так сильно, что вело к странности: не требуя равенства в сношениях с
Менгли-Гиреем, московский двор требовал полного равенства в сношениях с
султаном турецким, которого Менгли-Гирей был подручником” [150; 3; 199].
Становление темы “царя” в русской культуре происходило, как под византийским,
так и под татарским внешним влиянием. Однако татарское воздействие было
более интенсивным и культурологически более всеохватывающим.
Таким образом, возвышение Московского княжества, не собирание, а захват,
завоевание московскими князьями русских земель не несли с собой
оздоровительного, облагораживающего, гуманного начала в формирующейся русской
культуре. Московизация северо-восточной Руси по существу означала
интериоризацию сложившейся после установления татаро-монгольского ига
деспотической ментальной структуры, рассмотренной в предыдущем параграфе.
Насилие и страх становятся неотъемлемой составляющей, нормой внутренней
русской жизни.
Восприятие Русской земли, присоединенных и неприсоединенных к Москве, как
отчины московского князя, формирует глубокую, антигуманную традицию понимания
жизни как средства. В этом мире все является средством Московского князя.
Только он является абсолютной ценностю, целью самой по себе. Это
представление органически порождает идею царя как важнейшую, всеобщую,
политическую, социально-экономическую и жизненную потребность. Однако в конце
XIV – первой половине XV вв. царская власть еще воспринималась, как внешняя,
самодовлеющая сила татарского хана. Пока лишь изредка, в подражание
последнему, Московский князь примеряет царский титул. Первую заявку на
царские почести сделал великий князь Дмитрий Иванович. В русской литературе
высшим комплиментом московскому князю было величание его титулом царя.
Поскольку процесс интериоризации этой внешней деспотической структуры в
формирующейся русской культуре лишь начался, то целесообразно оставить без
изменений ФТС русской культуры, выделнную в предыдущем параграфе.
§3. Особенности тематического пространства Новгород-псковского культурного
региона и его разрушение в ходе московского завоевания
Окончательный распад Киевской Руси на удельные княжества во второй четверти
XII столетия положил начало формированию своеобразной ценностно-мыслительной
системы республиканской вольности новгородского духа или новгородской
культуры. “До второй четверти XII в., ¾ пишет В.О.Ключевский,
¾ в быте Новгородской земли незаметно никаких политических
особенностей, которые выделяли бы ее из других областей Русской земли. Но со
смерти Владимира Мономаха новгородцы все успешнее приобретают преимущества,
ставшие основанием новгородской вольности” [62; 2; 55]. С этого момента
эволюция ментальных пространств новгородской и удельно-княжеской культур
северо-восточной Руси происходит в существенно различных направлениях.
Ментальное пространство удельно-княжеской Руси вплоть до татаро-монгольского
нашествия продолжало дробиться и проявляло явные признаки упадка, которые
выражались в его “схлопывании” (т.е. росте культурной изоляции), упрощении
(т.е. в сокращении тематического разнообразия).
Общим критерием развития или деградации ценностно-мыслительного пространства
культуры может служить развертывание или свертывание его тематических
субпространств. О развертывании субпространственных конфигураций архетипов
культуры можно говорить, когда наблюдается нарастание тематического
разнообразия, развитие их смыслового содержания, усложнение связей и
отношений между ними и т.д. Тогда создается впечатление взлета, расширения
пространства культуры. Обратные процессы оставляют ощущение сужения, распада
духовного пространства культуры, и, как правило, оцениваются как периоды ее
кризиса. Однако, чаще всего, развитие и деградация субпространственных
конфигураций происходит несинхронно. Поэтому однозначно говорить о развитии
или упадке культуры не представляется возможным. Так, в эпоху раннего
христианства в поздней Римской империи развитие христианства означало
стремительное тематическое расширение христианского субпространства. В это
же время происходило падение материального производства, уровня жизни,
добродетели, достоинства человека, индивидуальной свободы и т.д., что
являлось выражением сокращения и распада социально-экономического
субпространства. В XIX и XX вв., напротив, кризис религии выражался в
вытеснении на периферию ценностно-мыслительного пространства культуры
религиозных представлений и ценностей, в то время, как бурное развитие науки,
материальной сферы жизни, индивидуализма, расширения прав и свобод человека и
т.д. является проявлением развертывания социально-политического и
индивидуального”жизненных миров”.
Проблема обуздания Силы в Новгороде
Если лейтмотивом духовной культуры удельно-княжеской северо-восточной Руси,
как отмечалось, после установления татаро-монгольского ига была тема “силы”,
культ силы, переходящей в тотальное насилие, а по мере возвышения Московского
княжества происходит невиданная ранее среди древнерусских князей концентрация
Силы в руках московского князя, то основным мотивом формирования ментального
пространства новгородской культуры становится задача подавления Силы,
недопущение ее централизации и таким образом создание предпосылок для
цивилизованного развития.
Одним из главных направлений ослабления Силы в Новгородском государстве была
деятельность по ограничению власти князя. В договорных грамотах тщательно
выписывались условия, на которых князь осуществлял управление Новгородской
землей. Они определяли судебно-административные, финансовые, торговые
отношения между городом и князем. Судебная и административная деятельность
князя была под постоянным надзором новгородского представителя. “Князь был в
Новгороде,¾ пишет В.О.Ключевский,¾ высшей правительственной и
судебной властью, руководил управлением и судом, определял частные
гражданские отношения согласно с местным обычаем и законом, скреплял сделки и
утверждал в правах. Но все эти судебные и административные действия он
совершал не один и не по личному усмотрению, а в присутствии и с согласия
выборного новгородского посадника.” [62; 2; 59]. В грамоте (1304 – 1305 гг.)
Новгорода тверскому великому князю Михаилу Ярославичу читаем: “ А бес
посадника ти волостии не раздавати, ни суда ти судити, ни грамотъ давати”
[40; 17]. Князю, его княгине, боярам и дворянам запрещалось приобретать села
и слободы в Новгородской земле: “ А селъ ти не ставити по Новгородьскои
волости, ни твоеи княгыни, ни твоимъ бояромъ, ни твоимъ дворяномъ, ни купити,
ни даромъ примати. А слободъ ти не ставити по Ногородьскои волости” [40; 17].
Во внешней торговле князь мог принимать участие только через новгордских
посредников. “А въ Немечкомъ дворе тобе, княже, тьрговати нашею братиею” [40;
17]. Договорные грамоты с князьями по существу представляют собой список
ограничений деятельности князя. Нигде, кроме Новгородской земли подобной
традиции в Киевской Руси не было. Князь в своей земле был царь и бог, ничем
не ограниченный.
Другим важнейшим направлением обуздания силовой стихии явилось установление
разделения властей и упорядочивание внутригородской с сельскими районами
жизни. Высшую исполнительную власть осуществляли посадники и тысяцкий,
которые с помощью подчиненных им должностных лиц (приставов, тиунов,
половников, изветников и др.) вели текущие дела управления и суда. Новгород
подразделялся на пять административных округов – концов, во главе которых
стоял выборный кончанский староста, который вел текущие дела конца. Как
отмечает В.О.Ключевский, “он правил концом не один, а при содействии коллегии
знатных обывателей конца, которая составляла кончанскую управу. Эта управа
была исполнительным учреждением, действовавшим под надзором кончанского веча,
имевшего распорядительную власть. Союз концов и составлял общину Великого
Новгорода” [62; 2; 63]. Каждый конец в свою очередь состоял из двух сотен.
Каждую сотню возглавлял выборный соцкий, обладавший определенной
самостоятельностью и опиравшийся на свое вече. Сотни подразделялись на самые
мелкие административные части города – улицы, каждая из которых возглавлялась
выборным улицким старостой, пользовавшимся самоуправлением. “Таким
образом,¾ подчеркивает В.О.Ключевский,¾ Новгород представлял
многостепенное соединение мелких и крупных местных миров, из которых большие
составлялись сложением меньших” [62; 2; 63]. Пяти концам города подчинялись
областные округа, пятины, являвшиеся их радиальным продолжением. “Вообще в
устройстве областного управления Новгородской земли,¾ пишет
В.О.Ключевский,¾ заметен решительный перевес центробежных сил,
парализовавших действие политического центра” [62; 2; 71]. “Жизненные стихии
Новгородской земли сложились в такое сочетание, которое сделало из нее
обширный набор крупных и мелких местных миров, устроившихся по образцу
центра, с большей или меньшей долей уступленной или присвоенной державности”
[62; 2; 72].
Организация Новгородского государства представляла собой децентрализованную
систему с предоставлением большой автономии и самостоятельности ее различным
административным еденицам. Эта стихийно сложившаяся демократическая
административная система составляла сложный механизм распределения и
дозировки для предотвращения установления тиранической власти, ущемления
фундаментальной ценности Новгородской республики ¾ новгородской
вольности. Вместе с тем этот с виду громоздкий и неповоротливый механизм
государственного управления оказывался достаточно отлаженным и эффективным в
случаях необходимости защиты отечества, Великого Новгорода и святой Софии. В
преодолении языческих традиций силового мышления важную роль сыграло
христианство и церковь, которые главным образом формировали представление о
безнравственности, пагубности физической силы как основы социального
поведения.
Новгородские былины о Василии Буслаеве, воспевающие физическую силу даже в ее
разрушительной функции, отражали представления низших, бедных слоев
новгородского общества на ранних этапах развития Киевской Руси. Они
убедительно показывают сколь трудный и динный путь ему пришлось пройти в
преодолении демонизма физической силы. Этот процесс до падения Новгородской
республики в 1477 г. так и не был завершен. Наиболее ярким подтвержлением
тому являются периодически повторяющиеся набеги, сопровождавшиеся грабежами,
насилиями, разрушениями новгородских разбойников, называемых ушкуйниками.
Однако следует заметить, что ушкуйники предствляли собой голытьбу,
деклассированный элемент, по существу не являлись полноценными
представителями новгородского общества. Примечательно, что эти всплески
насилия новгородских разбойников происходил за пределами Новгородского
государства в чужой земле. В Новгородской земле им развернуться не
представлялось возможным.
Другим показательным примером может служить силовой способ решения вопросов в
новгородском вече. Когда при обсуждении вопроса голоса разделялись
приблизительно поровну и вече разделялось на партии, тогда Право уступало
место физической Силе. Вопрос решался посредством драки: претензии
победившей, осилившей стороны приобретали юридический характер законодательно
оправданного решения.
Таким образом, в тематическом пространстве новгородской культуры тема
''силы'' не играла доминирующего значения. Более того, по мере упрочения
христианства и демократических традиций наблюдается процесс ее постепенного
ослабления. ''Метрику'' ее ценностно-мыслительного пространства определяла
фундаментальная структура, образуемая двумя тематическими центрами:
христианскими ценностями и ценностями гражданскими. В то время как в удельно-
княжеской, а затем в Московской Руси, как отмечалось ранее, по мере насыщения
ментального пространства энергией Силы звучание темы “вольности” в большей
степени ослабевает, дух вольности подавляется, загоняется в глубины
коллективного бессознательного. Это существенное отличие новгородсого духа и
дает основание для названия его новгородской культурой.
Тема “вольности”
Обратимся к анализу темы “вольности” как важнейшего ценностно-тематического
источника, и ее роли в становлении новгородской культуры. Самую очевидную,
не требующую доказательств истину новгородского духа составляла идея
равенства всех граждан новгородского общества перед законом. В первой статье
Новгородской Судной грамоты утверждается: ” а судити ему всех равно, как
боярина, так и житьего, так и молодчего человека” [133; 1; 304]. Идея
равенства, пропитавшая весь строй новгородской жизни, заключалась не в
имущественном и политическом положении. Равенство заключалось в свободе.
В социальном составе новгородского общества выделяют следующие социальные
слои: слой бояр, местной правительственной знати, первоначально выдвинувшейся
на высшие управленческие должности по назначению князя, а затем став получать
свои правительственные полномочия от новгородского веча; житыих (житьих)
людей, крупных землевладельцев и капиталистов, принимавших активное участие в
торговле; купцов, составлявших класс чистых торговцев; черных людей (мелких
ремесленников и рабочих); земцев, образовавших класс крестьян, которые
владели землей на правах собственности, по мнению В.О.Ключевского, земцы
довольно многочисленный класс. “Этого класса мы не встречаем на всем
пространстве княжеской Руси: там все крестьяне работали либо на
государственных, либо на частных господских землях”) [62; 2; 77]. Все
свободное крестьянское население в Новгородской земле носило общее название
смердов, в составе которого различают два разряда: смерды в узком смысле
слова, обрабатывающие государственные земли Новгорода, и половники, сидевшие
на землях частных владельцев на условиях поземельной аренды. В наиболее
угнетенном состоянии находолись холопы [62; 2; 74-78].
Оценивая социально-политическое устройство Великого Новгорода В.О.Ключевский
пишет: ”Формы его политического быта носили демократический отпечаток: перед
судом были равны лица всех свободных состояний; все свободные обыватели
имели место и равные голоса на вече” [62; 2; 80].
Во всяком демократическом обществе прошлого и настоящего имеет место
имущественное неравенство (и весьма значительное!), которое обычно влечет за
собой неравенство и политическое. И государство Великого Новгорода в этом
отношении не составляет исключения. Здесь важно зафиксировать другое;
декларация равноправия и проведение его в качестве основополагающего принципа
социально-политической жизни предполагает неявную посылку – утверждение
абсолютной ценности полноправного гражданина и его свободы в рамках закона.
Однако, как можно наблюдать в развитии западно-европейской культуры в эпоху
позднего Средневековья и Возрождения, полнота реализации и степень осознания
этой свободы в демократическом обществе может быть различной.
Демократизм Новгородской республики оказался аномалией по отношению к
авторитарному духу древнерусской, а затем и русской культур. Новгородское
общество было типологически близким образованием к западно-европейским
свободным городским общинам. Это своеобразие новгородской культуры отмечает и
сам В.О.Ключевский: ”Можно подумать, что в этой формуле равенства всех
состояний перед законом выразилось вековое развитие новгородского общества в
демократическом направлении. В таком случае Новгород надобно признать
непохожим на его сверстников, на старшие волостные города Киевской Руси, в
которых общественный быт отличался аристократическим, патрицианским
характером” [62; 2; 73]. Не аристократическим и патрицианским (явная
европеизация В.О. Ключевским культуры Киевской Руси), а деспотическим
характером.
Новгородские письменные источники в полной мере отражают это обстоятельство.
В официальных документах обязательно подчеркивается источник волеизьявления:
”от всего Великого Новгорода”, или же, как в грамоте Великого Новгорода о
предоставлении на год ”черного бора” с Новоторжских волостей великому князю
Василию Васильевичу (1448 ¾ 1461 гг.) перечисляются не только высшие
руководители (посадник и тысяцкий), но и все слои свободного населения
Новгорода: ”От посадника Великого Новгорода степенного Офонаса Остафьевичя, и
от всехъ старыхъ посадниковъ, и от тысяцкого Великого Новгорода степенного
Михаила Ондреевичя, и от всехъ старыхъ тысяцкихъ, и от бояръ, и от житьихъ
людеи, и от купцовъ, и от черныхъ людеи, и от всего Великого Новагорода. На
вече на Ярославове дворе” [40; 38]. Примечательно, князь, как высший
правитель города, представитель внешнего мира в этом ряду не указывается.
Согласно договорной грамоте Великого Новгорода с великим князем Василием
Васильевичем о мире от 1435 г. в новгородское посольство входили
представители от черных людей: ”По благославению преподобнаго священноинока
Еуфимья, от посадника ноугородьскаго Михаила Ивановичя, от тысяцкаго
новьгородскаго Ананьи Васильевичя, и от всего Великого Новагорода. Се
приехали послове к великому князю Василью Васильевичю всея Руси от Великого
Новагорода посадникъ Офонасъ Федоровичь, и посадникъ степенныи Михаила
Онаньичь, от черныхъ людеи Козма Тарасьинъ и Михаило Семеновъ, докончали миръ
по старымъ грамотамъ крестнымъ с княземъ великимъ с Васильемъ Васильевичемъ
всея Руси” [40; 34-35]. В конце грамоты указываются участники крестного
целования, гарантирующие выполнение принятых обязательств: ”На томъ на всемъ,
княже, крестъ целуи къ всему Великому Новугороду по любви и въ правду, без
всякого извета; такъже и посадникы, и тысяцкые, и весь Великыи Новъгород, на
сем же целуите крестъ к великому князю Василью Васильевичю всеи Руси, по
любви, в правду, безъ хитрости” [40; 36]. Со стороны Новгорода бремя
ответственности несут не посадник, тысяцкий и бояре, а ”весь Великий
Новгород”.
Новгородская аристократия играла важнейшую роль в управлении Новгородской
землей. Совет господ, члены которого назывались боярами, готовил вопросы,
проекты законов и постановлений для вече. Не имея собственного голоса на
вече, Совет господ, безусловно, оказывал большое влияниие на принятие нужных
ему решений. Однако, на наш взгляд, нельзя утверждать, что вече было его
послушным орудием. Тем более, если учитывать, что слой новгородской знати был
неоднородным. Он всегда распадался на партии, отстаивающие свои собственные
интересы.
Власть бояр ослаблялась также отсутствием в их распоряжении репрессивного
аппарата в виде вооруженных отрядов с полицейскими функциями. При этом, как
правило, горожане Новгорода были вооружены и по первому зову или звону
вечевого колокола готовы были собраться на вечевой площади, на Ярославовом
дворе. ”В лето 6795 (1287 г.).¾ пишет летописец Новгородской первой
летописи младшего извода,¾ Быстъ мятеж великъ в Новегороде на Смена
Михаиловича: въста на него всь Новъгород без исправы, поидоша на него изо
всех концовъ, яко сильная рать, всякыи в оружии, силою великою; жалостъно
видение. И тако поидоша на дворъ его, взяша всь домъ его съ шюмомъ. Семеонъ
прибежа къ владыце, и владыка провади въ святую Софею; и тако ублюде богъ, и
заутра снидошася в любовь” [198; 321]. Поэтому, что весьма существенно для
новгородской демократии, новгородская аристократия вынуждена была
осуществлять свою власть ненасильственными способами.
Важным показателем демократического устройства новгородской республики
является выборность власти всех уровней, в том числе и новгордского владыки.
Функционирование местной власти осуществлялось в большой степени гласно.
Например, договор Новгорода с немецкими купцами о спорных делах от 17 мая
1338 г. начинается словами: ”Да будет ведомо всем людям, которые эту грамоту
слышат и видят” [40; 71].
Во внешних отношениях с другими государствами Новгород последовательно
отстаивает честь и достоинство своих граждан, их равноправие: ”А задолжает
новгородец на Готском берегу, то в погреб его не сажать; также не делать
этого и в Новгороде с немцем и готом, ни бирича к ним не посылать, ни за
одежду их не хватать, а каждую сторону требует пристав тысяцкого” [40; 60]. В
грамоте Великого Новгорода (от 1417¾1421 гг.) Риге высказывается
требование суда над Иньцей Зашембакой и его братом Артемием, орденским
переводчиком, по жалобе новгородца Александра Трифонова сына в неуплате 50
рублей [40; 96]. В грамоте Великого Новгорода (от 1421 г.) Юрьеву, отстаивая
свои торговые отношения, содержится отказ заключать мир до удовлетворения
обид: “У нас был ранее мир с вами, и во время этого мира вы начали чинить
неправду нашей братье, и пограбили нашу братью; вы порочите товар нашей
братьи, и растапливаете воск, и продаете нашей братье поддельный товар.
Поэтому новгородские купцы не желают торговать и мир держать с вами и со
всеми 73 ганзейскими городами” [40; 101]. В договорной грамоте Великого
Новгорода (от 1421 г.) немецким купцам в Новгороде сообщается: “.и все
немецкие дети, которые теперь находятся в Новгороде в обоих немецких дворах,
чтобы немецким детям не выезжать из Великого Новгорода до тех пор, пока
новгородские купцы не вернутся все здоровыми из Колывани и из Юрьева со
своими товарами в Новгородскую землю в Новый городок; тогда всем немецким
детям ехать здоровыми со своим товаром из Великого Новгорода по Новгородской
земле в свою землю” [40; 113]. В договорной грамоте литовского великого князя
Казимира (1440¾1447 гг.) с Великим Новгородом о мире, как обычно,
проводится принцип равного партнерства: “А мне, великому князю Казимиру,
королевичу, блюсти новгородча, какъ и своего литвина. Такоже и новгородчем
блюсти литвина, какъ и своего новгородча” [40; 115].
Примечательно, что в частных грамотах (купчих, духовных, рядных, раздельных и
др.) Новгорода, как правило, не указывается социальная или профессиональная
принадлежность. Делаются ссылки лишь относительно посадников, игуменов,
попов. Это обстоятельство показывает, что на первый план идентификации
выносится сама личность, его имя и отчество, редко фамилия. В частных
грамотах никогда не указывается площадь земельного участка. Дается лишь
описание ориентиров, определяющих его границы. Анализ этих купчих, духовных
грамот и других источников позволяет заключить, что они являются большей
частью документами людей среднего достатка, и что средний класс в
Новгородской земле был весьма многочисленным. Из договорных грамот Великого
Новгорода и частных грамот его горожан, а также Двины, Ваги, Обонежья
проистекает дух вольности свободных, уверенных в себе людей, как выражение
естественно сложившегося их бытия.
Однако, конечно, свобода никогда не приходит сама собой. Она всегда
завоевывается в тяжелой, не прекращающейся ни на минуту борьбе. В противном
случае она никогда не приходит. Обретенная свобода всегда является
результатом, следствием приложения неукротимой воли к свободе. Как? При каких
обстоятельствах она возникает у того или у иного народа, несмотря на
имеющиеся многочисленные объяснения (например, образование полисной Греции
или республиканского Рима), так и остается загадкой. Не вполне понятным
остается феномен происхождения новгородской республики. Между тем очевидно,
что избавление от тирании князя или бояр относится к завоеванию
преимущественно черных людей Великого Новгорода. Анализ описаний волнений в
Новгороде показывает, что наиболее многочисленной, энергичной, порой
неуправляемой стихией, была масса черных людей. Несколько примеров.
С. М. Соловьев так описывает сложные отношения новгородцев с князем Александром
Невским: “Новгородцы любили видеть Александра в челе дружин своих; но недолго
могли ужиться с ним как с правителем, ибо Александр шел по следам отцовским и
дедовским: в самый год Невской победы он выехал из Новгорода
(выделено.¾В. М. ), рассорившись с жителями” [150; 2; 149].
В 1255 г. новгородцы выгнали князя Василия, сына великого князя Александра
Невского, и перевели к себе из Пскова Ярослава тверского. “Но Василий не
думал уступать дяде без борьбы и, засевши, по обычаю, в Торжке, дожидался
отца своего с полками, и ждал недолго; Александр явился с двоюродным братом
своим Димитрием Святославичем и, присоединив к себе сына с новоторжцами,
выступил против Новгорода; на дороге встретил его какой-то Ратишка с
переветом. “Ступай, князь! ¾ говорил он, ¾ брат твой Ярослав
убежал.” Несмотря, однако, на бегство князя, новгородцы не хотели безусловно
покориться Александру и выстроили два полка, конный и пеший ( в борьбе за
свободу новгородское ополчение против самого Александра Невского, победителя
шведов и немцев! – В. М.), причем в первый раз высказались две сословные
партии: меньшие люди, собравши вече у св. Николы, сказали: “Братья! А что как
князь скажет: выдайте мне врагов моих!” В ответ все меньшие целовали образ
богородицы стать всем заодно – либо живот, либо смерть за правду
новгородскую, за свою отчизну. Но лучшие люди думали иначе: им хотелось
побить меньших и ввести князя на своей воле. .на четвертый день Александр
прислал объявить новое условие: “Если Анания не будет посадником, то помирюсь
с вами”. Это требование было исполнено: Анания свергнут, его место занял
Михалко Степанович, и Василий Александрович опять стал княжить в Новгороде”
[150; 2; 153-154].
Не менее напряженными складывались отношения новгородцев после смерти
Александра Невского уже с тверским князем Ярославом Ярославовичем, три
договорные грамоты с которым дошли до нас. “Новгородцы хотели мира с
Ярославом из страха перед немцами только, и когда этот страх прошел, то в
следующем же 1270 году встал мятеж в городе: начали выгонять князя, собрали
вече на Ярославовом дворе, убили приятеля княжеского Иванка, а другие
приятели Ярославовы, и между ними тысяцкий Ратибор, скрылись к князю на
Городище; новгородцы разграбили их домы, хоромы разнесли, а князю послали
грамоту с жалобою. Ярослав, несмотря на все свои старания, должен был
выехать, и новгородцы послали за Димитрием Александровичем, но ошиблись в
расчете: Димитрий отказался ехать к ним, сказавши: “Не хочу взять стола перед
дядею”. Новгородцы приуныли, особенно когда узнали, что Ярослав копит полки
на них, мало того, послал к хану их прежнего тысяцкого Ратибора просить
помощи на Новгород; Ратибор говорил хану: “Новгородцы тебя не слушают; мы
просили у них дани для тебя, а они нас выгнали, других убили, домы наши
разграбили и Ярослава обесчестили”. Хан поверил и отправил войско к Ярославу”
[150; 2; 158-159]. Костромскому князю Василию удалось возвратить с дороги
татарскую рать. “Между тем новгородцы поставили острог около города, имение
свое вывезли в крепость, и когда явились сторожа Ярославовы, то весь город
вышел с оружием от мала до велика (!¾ В. М.). Ярослав, узнав об этом,
засел в Русе, а в Новгород послал с мирными предложениями: ”Обещаюсь впредь
не делать ничего того, за что на меня сердитесь, все князья в том за меня
поручатся”. Новгородцы отвечали: “Князь! ты вздумал зло на св. Софию, так
ступай: а мы помрем честно за св. Софию; у нас князя нет, но с
нами бог, и правда, и св. София, а тебя не хотим”. .Дело, впрочем, не дошло
до битвы, потому что явился новый посредник: прислал митрополит грамоту.
Митрополичья грамота подействовала, и когда Ярослав опять прислал в
новгородский полк с поклоном, то новгородцы помирились с ним на всей своей
воле, посадили его опять у себя на столе и привели к кресту” [150; 2;
159].
Острое противоборство имело место внутри новгородского общества, между
черными людьми и зажиточными, прежде всего боярами. Наиболее показательным
примером может служить именуемое в литературе восстание в Новгороде 1418 г.
“.человек один – Степанко – схватил боярина Данилу Ивановича, Божина внука,
и, держа, кричал людям: ”Да, государи мои, помогите же мне таково
расправиться со злодеем этим!” Люди же, услыхав его крики, протащили боярина,
словно злодея, до веча и избили его чуть не до смерти, а потом, сведя с веча,
сбросили его с моста. Один же из Людина конца, Личков сын, желая ему помочь,
подобрал его в лодку, и народ, разъярясь на того рыбака, дом его разграбил. А
помянутый боярин, желая за бесчестье свое отомстить, схватил своего
противника и стал мучить – желая рану исцелить, еще большее бедствие воздвиг;
не припомнил сказавшего: “Аз отмщение”.
Народ же, прознав, что схвачен Степанко, начал звонить на Ярославле-дворе к
вечу, и собиралось людей множество, кричали, препирались несколько дней:
“Пойдем на того боярина и дом его разграбим!” И пришли, вооружась и со
стягом, на Космодемьянскую улицу, пограбили дом его и других дворов много, и
на Яновской улице берег ограбили.
А после грабежа того, перепугавшись, как бы хуже не стало им, козьмодемьянцы
вернули Степанка и, придя к архиепископу, молили его послать кого-нибудь к
собранию народному. И святитель внял молениям их и отправил Степанка со
священником и со своим боярином; и люди приняли Степанка. И вновь разъярился
народ, все словно пьяные на другого боярина, на Ивана на Иевлича с Чудинцевой
улицы, и вместе с домом его много разграбили домов боярских, и монастырь
святого Николы на Поле разграбили, говоря: “Здесь житницы боярские! “И еще в
то же утро на Людогощей улице пограбили дворов множество, приговаривая: “Нам
враги они!” – и на Прусскую улицу пришли, но там отбились от них.
И с того часа стала вражда множиться: прибежали они на свою Торговую сторону,
закричали: “Софийская сторона хочет против нас ополчиться и дома наши
пограбить”, и стали звонить по всему городу, и начали люди сбегаться с обеих
сторон, как на битву, в доспехах, на мост Великий; были и жертвы: те от
стрел, а те от мечей, и мертвые были будто в бою. И от ужаса того страшного,
и от мятежа того великого всколыхнулся весь город, и напал страх на обе
стороны.
Прослышав же о междоусобной схватке среди своей паствы, архиепископ Семеон
пролил слезы из очей своих и повелел приближенным собрать собор свой; и,
войдя в храм святой Софии, начал архиепископ молиться со слезами, и облачился
в священные ризы со всем своим собором, и, повелев взять крест господен и
образ пресвятой богородицы, пошел на мост. И вслед за ним шли священники и
причт церковный, и именитые люди за ними пошли, и множество народа, проливая
слезы, говоря: “Усмири же господи, молитвами господина нашего!” И люди
богобоязненные припадали к ногам святителя со слезами: “Иди, господине, да
усмирит господь твоим благословением междоусобную схватку”. Другие же
говорили: “Пусть бедствие падет на зачинщиков усобицы!”
И, подойдя, святитель стал посреди моста, и, подняв животворный крест, стал
благословлять обе стороны; те же, взирая на честной крест, рыдали. Как узнала
та сторона о прибытии святителя, пришел посадник Федор Тимофеевич с другими
посадниками и с тысяцкими, поклонились владыке. Владыка внял их мольбам,
послал архимандрита Варлаама и отца своего духовного протодиакона на
Ярославль-двор, чтобы благословили степенного посадника Василия Есифовича и
тысяцкого Кузьму Терентьевича и чтобы разошлись все по домам своим.
И разошлись молитвами святой богородицы и благословением архиепископа
Семеона, и настала тишина в городе” [107; 501; 503].
Таким образом, в формировании республиканского устройства в Новгороде как
выражения духа вольности важную роль сыграли черные люди. Между
тем,зажиточные слои были склонны не только к компромиссу, к уступкам князьям,
но и прямому предательству интересов новгородской демократии. Поэтому
характер государственного устройства Великого Новгорода носит печать
плебейских требований равноправия, являет собой отпечаток интересов черных
людей. Как видно из приведенных примеров, новгородская знать, бояре оказались
незащищенными против стихийных всплесков недовольства толпы, не имели
действенных средств подавления мятежной черни. Следует также заметить, что
если во внутриновгородских смутах беднота, вероятно, составляла большинство
беснующихся толп, то при внешней опасности и угрозе новгородской демократии
нравственное ядро в борьбе за свободу и справедливость составлял средний
класс новгородского общества. В отличие от голытьбы им было что терять, было
за что сражаться с таким упорством.
В ментальном пространстве новгородской культуры имеют место две доминирующие
темы, две абсолютные ценности, которые сразу же бросаються в глаза при чтении
новгородских литературных источников, ¾ это темы “Великого Новгорода”
или “господина Великого Новгорода” и “святой Софии”.
Тема “Великого Новгорода”
Тема “Великого Новгорода” является фундаментальной в духовном пространстве
культуры. Ее определяющее положение выражается не в раболепном, подавляющем,
а в возвышающем дополнении словом “господин”. Во всех официальных документах
неоднократно употребляемое словосочетание “Великий Новгород” представляет
выделенные места в тексте, несущие особенно важную смысловую нагрузку. Тема
“Великий Новгород” носит синтетический характер, содержание которой никто и
никогда не определял и даже не пытался этого сделать, потому что всем
новгородцам смысл ее, подобно аксиоме, был совершенно ясен. Тема “Великого
Новгорода” выступала синонимом отчизны. Ее семантическое поле очерчивалось
обозначением всего духовного настроя, образа жизни вольного города. В этом
смысле тема “Великого Новгорода” совпадает с темой “вольности”. “Великий
Новгород” – это не что-то самодовлеющее над новгородцами. “Великий Новгород”
– это они сами, их вольная (с точки зрения внешнего наблюдателя удельно-
княжеской Руси или монаха монастыря, суматошная, неупорядоченная) жизнь,
которую они готовы были отстаивать от мала до велика до конца. В ценностно-
мыслительном пространстве функция темы “Великий Новгород” аналогична темам
“Афин” у афинян, “Рима” у римлян, особенно в республиканском Риме,
“Флоренции” у флорентийцев и т. д.
Тема “святой Софии”
Тема “святой Софии” обозначает самое сокровенное переживание в духовном
пространстве новгородской культуры. В самые важные, напряженные моменты
новгородской истории новгородцы призывали, обращались к святой Софии.
Описывая страдания и разрушение Русских земель во время татаро-монгольского
завоевания, новгородский летописец заключает: “Новгородъ же заступи богъ и
святая великая и зборная апостольская церкви Софья.”. [98; 76]. Сила святой
Софии ведет к победе и защищает в бою. В 1240 г. в битве со шведами на р.
Неве победили “силою святыя Софья и молитвами владычица нашея богородица и
приснодевица Мария” и “придоша вси здрави въ своя си, схранени богомъ и
святою Софьею и молитвами всехъ святыхъ”. [98; 77]. В 1257 г. в Золотой Орде
воцарился брат Батыя Берге, или Берке, который объявил о проведении второй
переписи одновременно во всех странах, подвластных татарам. На Русь приехали
численники, сочли всю землю Суздальскую, Рязанскую и Муромскую, поставили
десятников, сотников, тысячников и темников, не считали только игуменов,
чернецов, священников и клирошан. В свободолюбивом Новгороде после вести о
переписи все лето продолжалось смятение. Когда зимой Александр приехал с
татарами проводить перепись, в Новгороде опять стал сильный мятеж. В
Новгороде высказались две враждующие сословные партии: одни горожане никак не
хотели дать числа. “Умрем честию за святую Софию и за домы ангельские”,
¾ говорили они: но другие требовали согласия на перепись и наконец
осилили. [150; 2; 154-153]. В приведенном выше отрывке о противоборстве
с тверским князем Ярославом Ярославовичем новгородцы говорили: “Князь! ты
вздумал зло на св. Софию, так ступай: а мы изомрем честно за св. Софию; у нас
князя нет, но с нами бог и правда и св. София, а тебя не хотим” [150; 2;
159].
Мышление новгородцев не было перегружено абстракциями, более того, оно вообще
было лишено абстракций в современном понимании слова. За исключением наиболее
образованных религиозных деятелей, которых насчитывалось единицы, в лучшем
случае ¾ несколько десятков во всей Древней Руси, подавляющая масса
древнерусского населения не вполне осознавала характер трансцендентности,
сверхчувственности божественной реальности. Даже высшие религиозные
абстракции бога-отца и бога-сына в религиозном восприятии славян были
чувственно-наглядными представлениями.
В ментальном пространстве древнерусской культуры от принявшей христианство
Киевской Руси до образования Русского централизованного государства важнейшее
место занимает церковь, не как абстракция, а как главный, центральный храм.
Очевидно, что кафедральный храм представлял собой сосредоточие духовной жизни
города-столицы и всей земли. Как известно, для строительства храма выбиралось
возвышенное, самое предпочтительное место, которое согласно представлениям
славян обладало наибольшей сакральной (дом бога), общественно-политической
(все основные события происходили перед храмом, перед которым обычно
располагалась площадь для веча ), эстетической (в хаосе городской застройки,
среди деревянных изб, немощенных, полных грязи и мусора улиц, ослепительная
белизна и ухоженность храма выступала как действительно совершенное,
божественное творение ) значимостью. Церковные праздники и богослужения,
собрания вече на площади, заключение мира и объявление войны и других
важнейших решений перед храмом и т. п. – все это составляло самые
сокровенные, дорогие переживания людей, единение их духа в победах и
поражениях, радости и несчастиях. Поэтому в иерархии ценностей не было выше
ценности, чем святая церковь: у новгородцев ¾ святая София, у
псковичей – святая Троица. Ценностные приоритеты легко прослеживаются в
текстах при перечислении ценностей.
Тема ''святой Троицы''
Особенно они показательны в описаниях важных, критических моментов истории.
Так, литовский князь Довмонт, знаменитый защитник Псковской земли, перед
битвой с литовцами сказал Давыду и Луве: “Помоги вам бог и святая Троица за
то, что устерегли войско великое, ступайте отсюда”. И ответили Давыд и Лува:
“Не уйдем отсюда, хотим умереть со славой и кровь свою пролить с мужами
псковичами за святую Троицу и за все церкви святые. А ты, господин и князь,
выступай быстрее с мужами-псковичами против поганых литовцев”. Довмонт же
сказал псковичам: “Братья мужи-псковичи! Кто стар ¾ тот отец мне, а
кто млад ¾ тот брат. Слышал я о мужестве вашем во всех странах,
сейчас же, братья, нам предстоит жизнь или смерть. Братья мужи-псковичи,
постоим за святую Троицу и за святые церкви, за свое отечество!” [107; 53].
В “Сказании о Довмонте” есть еще один примечательный эпизод: “.спустя
некоторое время, в год 6775 (1268 г.), великий князь Дмитрий Александрович с
зятем своим Довмонтом и с мужами-новгородцами и псковичами пошли к Раковору,
и было побоище великое с безбожными немцами на поле чистом, и с помощью
святой Софии , премудрости божьей и святой Троицы победили они полки немецкие
18 февраля. в субботу сыропутную.” [107; 53].
Псковские летописи богаты материалом, посвященным строительству церквей во
Пскове и , особенно, храму святой Троицы ¾ главной святыни псковичей.
Псковские летописцы тщательно фиксируют строительство новых церквей в городе.
Особым вниманием наделена церковь святой Троицы. Они аккуратно отмечают
ремонт крыши , строительство ограды, обновление росписи, а также важнейшие
события, с ней связанные. Поэтому псковские летописи представляют собой
ценный источник для анализа аксиологического и семантического значения темы
церкви в ментальном пространстве русской культуры.
В Строевом списке в описании перед битвой с немцами летописец пишет: “И сташе
псковичи боеви, помолившеся святои великои троици и Всеволожи молитве и
Тимофееве, и взяше прощение промежи себе и ркоша: братья мужи псковичи, не
посоромимъ отецъ своих и дедовъ, кто старъ. то отецъ, а кто млад. то братъ,
се же , братьа, предлежитъ намъ животъ и смерть, посягнемъ за святую Троицу
и за святыа церкви, за свое отечьство. И бысть бо и сеча велика плесковичам
с Немци. в самыи Троицынъ день; .И богъ поможе мужемъ псковичемъ и
изборяномъ, посекоша Немецъ помощью святыа троица и молитвою князя Всеволода
и Тимофея, овех побиша, а инии прочь побегоша посрамлени”. [128; 97]. Таким
образом, тематическую последовательность ценностей представляют святая
Троица, святые церкви и отечество. Следует отметить еще один важный момент
этой речи, как и Довмонта. Псковичи обращаются к личной ответственности
каждого перед своими предками, что свидетельствует о развитости
индивидуального начала у псковичей, и обращаются друг к другу как к братьям,
что является одной из высших форм проявления равенства, демократизма.
Поскольку подобного рода обращения приобретают характер клише, поэтому можно
судить об устойчивости этих отношений.
В 1449 г. архиепископ Новгорода и Пскова владыка Ефимий приехал во Псков “в
дом святыа Троица”. “А на 3 день своего приезда сбороваше в домоу святыа
Троица, и сенедиктъ чтоша: злыа прокляша, которыи хотятъ дому святеи Софии и
домоу святеи Троици и Великому Новугороду и Пскову зла, а благоверным князем,
лежащим в домоу святеи Софии и в домоу святеи Троици, темъ пеша вечноую
память, тако же и инем добрым людямъ, которыа положиша своа главы и кровь
свою прольаша за домы божиа, за православное христианство, тако же и темъ
пеша вечноую память; а живоущим окрестъ святеи Софии в Великом Новегороде,
тако же и окресть святыа Троица во Пскове, а темъ пеша многа лета” [128; 138-
139]. Место в храме и рядом с ним, где похоронены самые знаменитые
религиозные и светские деятели, обладает абсолютной святостью, источником
благодати, сакрального воздействия.
Захоронение в соборе политического или религиозного деятеля привязывало его
дух, наполняло соборное пространство его нуминозной силой и благодатью. Души
умерших и захороненных в храме великих людей молились, сражались и всячески
помогали жителям города, обеспечивали процветание и возвеличивали собор
(например, св.Софии и св. Троицы), город (например, Новгород и Псков). “И
псковичи положише оупование,¾ пишет летописец, ¾ на бога и на
святую троицю, и на молитвоу благоверных князеи нашихъ Гаврила и Тимофеа,
лежящих оу домоу святыа Троица” [128; 122].
Под 1470 г. псковский летописец описывает избрание в Новгороде архиепископа:
“Того же месяца въ 15 день посадники новгородскии. и тысяцкии. и всь Великои
Новъгород, оу святого Софеа поставя вече пред святым Софеемъ, и положишя 3
жеребьи на престоле оу святеи Софеи. И избра богъ и святыи Софеи премудрость
божия слоужителя своемоу престолоу, а Великому Новоугородоу преосвященного
архиепископа, и осташе на престоле жребеи Фифилактов протодиакона и ризника
владычня” [128; 172]. Храмы св.Софии и св. Троицы выступают не только в
функции посредника, как место для трансцендирования, осуществления связи с
божеством, но и как самостоятельная, по крайней мере, автономная нуминозная
реальность. Очевидно, что такими качествами обладают не все, а лишь некоторые
храмы, поэтому они и приобретают характер абсолютных ценностей. В тексте
имеется ссылка на Бога, на божественное предначертание в избрании
новгородского архиепископа; в то же время неоднократно указывается на
священнодействие происходящего избрания перед ликом св.Софии, под
“патронатом” ее нуминозного воздействия. Отсюда предопределенность жребия ни
у кого не вызывала сомнения. Здесь не было случая, был только один выбор,
который и реализовался.
Св. Троица (как и св. София новгородская и киевская) может не только
поддерживать, приносить победу, она может наказать за грехи. “Еже врагъ,
диаволъ, ¾ пишет с негодованием летописец, ¾ нанесе на святоую
божию церковь крамолу: другии человеци, тако же забывше страх вышни,
оболкъшеся в бестоудство, отрекшеся мира яже в мире, и пришедше в мир, и
начаша воздвизатися и препростоу чадь възднимати по миру на самую соборноую
апостольскоую церковъ, на дом святыя Троица, истязуя от нея воды и земля
даноя в наследье божиа в дом святыа Троица, а миръ облеская лживыми словесы,
а ркя миру тако: несть в том вам никакова греха, толко вы отням тоую землю и
воду от дому святыа Троица, да мне даите в монастырь, ато язъ ведаю. И
посадники и всь Псковъ, месяца априля в 7, в неделю цветноую, даше име на
вече тоую землю и воду от домоу святыа Троица . И в тыя часы бысть всему
Пскову, еще и вече не поспело разеити, скорбь и туга велика: загореся во
Пскове за стенои того же Матоуте дворе; и бысть пламе и знои велике, показуя
начало нашему бестрашью, божиею помощью егда вгасиша. .А все то насъ наказуя
человечъ род бестрашныи, не покаряющехся, ни внимающим божественаго Писаниа”
[128; 176-177].
Когда царевна Софья ехала из Западной Европы в Москву, то маршрут был
проложен с непременным проездом через Псков и Новгород, где главным
мероприятием было посещение св. Троицы и св. Софии. Согласно Строевому
списку: “.и приехавши в дом живоначальныя Троици; и благословение от
священниковъ приемши, и знаменавше оу пречистеи в домоу живоначальныя Троица;
и тако вшедши в возъ, и поеде с великою честью изо Пскова.” [128; 191]. Для
псковичей св. Троица была действительно живоначальным источником, одним из
главных генераторов духовной культуры. Летописец, передавая обращение
великого князя Ивана III Васильевича к псковичам, писал: “.а князь великои
хощеть стояти за дом святыа Троица и за Псковъ за свою вотчину” [128; 194].
Псковская республика
Псковская республика, детище Великого Новгорода, пошла по пути духовно-
нравственного развития значительно дальше своей бывшей метрополии. Как
отмечает В.О.Ключевский, до половины ХİУ в. Псков “был пригородом
Новгорода, в 1347 г. по договору с Новгородом получил независимость от него,
стал называться младшим его братом” [62; 2; 70-71].
Историческое значение Псковской земли в истории русской культуры заключается
в том, что она породила уникально сбалансированный, самодостаточный духовный
мир, который никогда и нигде вплоть до конца ХХ столетия в России аналогов по
своей гармоничности не имел. Странным образом, столь примечательное явление в
русской истории и культуре, насколько можно судить, до сих пор не оценено по
достоинству и не получило систематического анализа.
В отличие от княжеско-дружинной культуры северо-восточной Руси, развитие
ценностно-мыслительного пространства которой по мере расширения экспансии
Московского княжества приобретало все более антигуманный характер, ментальное
пространство псковской культуры,несмотря на постоянные военные столкновения с
литовцами, немцами, насыщалось ценностями христианской морали. В
формирующейся русской культуре закладывалась фундаментальная ценностная
структура Силы-Насилия-Страха, которая в большой степени задавала метрику
всего ментального пространства и ненормальное течение культурно-творческого
процесса. Генератором этой объективной тематической структуры выступил
сначала московский князь, а затем самодержавный царь Российского
централизованного государства. Русская православная церковь могла только
смягчить ее негативное, разлагающее для развития личности воздействие.
Христианство в Московии всегда было формой внутреннего протеста, отрицания
жестокости, мерзости социальной жизни, бегством в мир, который только и давал
успокоение. Отсюда вечный разлом ментального пространства русской культуры,
бесчеловечность, рабство социального бытия, чистота и искренность
христианского порыва. В Псковской земле этого разрыва не было. Христианство
задавало фундаментальную структуру тематического пространства, определяло его
метрику. Псковичи построили мир, в котором не было места жуткому страху
Насилия, а энергия Силы была направлена на защиту отечества, своей свободы.
Если в истории русской культуры всякое достижение есть подвиг, преодоление
господствующей ментальной насильственной структуры, то в псковской республике
преобладала свободная реализация волеизъявления.
Безусловно, ценностно-мыслительное пространство Псковской земли требует более
полного исследования. К сожалению, до нас дошло небольшое число псковских
письменных источников, среди которых псковские летописи содержат наиболее
богатый материал. Поэтому реконструкция псковского ментального пространства
представляет собой достаточно сложную задачу.
Исходной проблемой тематического анализа является выявление доминирующих тем
как абсолютных ценностей, универсалий духовного пространства культуры,
которые определяют его структуру, основные направления развертывания.
Выделение базовой ценностно-мыслительной конструкции, образуемой
универсальными абсолютными ценностями, открывает возможность для
осуществления более тонкого исследования.
Новгородские и псковские ментальные пространства родственны не только по
происхождению (Псковская республика выделилась из Новгородской земли), но они
очень близки и по своей тематической структуре. Они отличаются лишь размерами
(Новгородская республика обладала значительно большей площадью, природными и
людскими ресурсами, финансовым капиталом и др.) и степенью внутренней
стабильности (в отличие от мятежного, внутренне напряженного, волнующегося
новгородского мира, псковский – демонстрация единодушия, сплоченности,
политической стабильности). Новгородское и псковское общества – это
демократические, основанные на законе и христианских ценностях, гражданские
общества. Как и Великий Новгород, псковский мир образуют две ФТС, выступающие
двумя ценностно-тематическими центрами пространства культуры: гражданская и
христианская. Они являются универсалиями этих двух подобных ментальных
пространств в том смысле, что всякое духовное явление этих привлекательных
миров нагружено христианскими и вольнолюбивыми мироощущениями.
Тема “вольности”
Тема “вольности” во Пскове, как и в Новгороде, представляет собой сложное,
синтетическое образование. Она также включает в себя идею равноправия как
основопологающего смыслообразующего принципа. Подобно новгородским, псковские
грамоты содержат перечисления всех социально значимых слоев общества с
обязательным заключительным выражением ”весь Псков”. Например, в грамоте
(1480 г.) псковского князя Василия Васильевича польскому королю Казимиру
говорится: ”.посадъники псковъские, и степеньники, и старие посадники, и
сынове посадъничы, и бояре, и соцъкие, и купъцы, и житии люди, и весь Псковъ,
челом бьетъ” [40; 325]. Псковская социальная иерархия отличается от
новгородской. Большую роль играют посадники. Поэтому наряду со старыми (т. е.
бывшими) посадниками употребляются сыновья посадников. Они не только
занимаются вопросами внутреннего управления, суда, но и выполняют
внешнеполитические функции (штат послов формировался исключительно из числа
посадников, иногда к ним добавляются бояре). Поскольку Псков , как вольный
город, вырос из пригорода Новгорода и не составлял тысячи, то в нем не
сформировалась должность тысяцкого, а, следовательно, и слой степенных (т. е.
бывших) тысяцких. Вслед за боярами идут соцкие, которые входили в
правительственный совет и судебную коллегию, господу. Вероятно, они набрали
такой политический вес вследствие важности своих функций, в частности, при
наборе ополчения, организации походов. Во Пскове, в отличие от Новгорода,
купцы приобрели большее значение, чем житьи люди, поэтому они в иерархии
следуют за соцкими. Все выше перечисленные слои составляли элиту псковского
общества. Черные люди в псковских грамотах и летописях, как правило, не
упоминаются. Однако главной особенностью ментального псковского пространства
было равенство всех в свободе. Это обстоятельство отмечает и В.О. Ключевский:
“Но самые характерные особенности встречаем в составе черного населения,
преимущественно сельского. И в Псковской земле было развито землевладение
земцев и сябров. Но здесь нет следов холопства и полусвободных состояний,
подобных новгородским половникам. В этом отношении Псковская область была,
может быть, единственным исключением в тогдашней России. В псковском
законодательстве заметно даже усиленное внимание к интересам изорника, как
назывался там крестьянин, работавший на земле частного владельца. Это вольный
хлебопашец, снимавший землю по годовому договору из четвертого или второго
снопа и пользовавшийся правом перехода от одного владельца к другому” [62; 2;
89-90].
Монолитность псковского духа
Одной из самых привлекательных примет псковского духовного пространства
является его монолитность, внутреннее единство псковского духа, духа не
угнетенного, а свободного, христиански насыщенного духа. В отличие от
Новгорода, во Пскове практически не было внутренних усобиц. “.Боярская
аристократия в Пскове не вырождается в олигархию, ¾ пишет В. О.
Ключевский, ¾ политические столкновения не разрастаются в социальный
антагонизм, не зажигают партийной борьбы; обычные тревоги и неровности
народных правлений сдерживаются и сглаживаются. Можно заметить и некоторые
причины такого направления общественных отношений, как бы сказать, столь
мягкого тона псковской политической жизни. Ограниченное пространство
Псковской земли не давало такого простора для развития крупного боярского
землевладения, какой открывался для того в беспредельной Новгородской
области. Потому политическая сила псковского боярства не находила достаточной
опоры в его экономическом положении, и это сдерживало политические притязания
правительственного класса. В связи с тем незаметно ни резкого сословного
неравенства, ни хронической социальной розни, как в Новгороде. Бояре наравне
с прочими классами “обрубались”, несли со своих земель военные тягости по
вечевой разверстке” [662; 2; 89].
Важнейшим фактором сплочения псковского общества являлась постоянная внешняя
угроза, необходимость всеобщего гражданского единства для защиты своего
отечества, целостности своего мира. В Строевом списке летописец пишет: “В
лето 6915 (1407 г. – В.М.). Индикта в 15. Князь Данило Олександровичь,
посадникъ Юрьи Филипьевич и весь Псковъ подъемша всю свою область, идоша на
Немецкую землю.” [128; 113]. “.того же лета, князь великии Констянтинъ.с мужи
со псковичи поднемше всю свою область и пригороды, и идоша за Норову
воевать.” [128; 114].
В отличие от вольных городов Италии, например, Флоренции, которые в военных
предприятиях использовали преимущество наемников, псковичи для защиты своей
земли и организации военных походов возмездия и за добычей опирались большей
частью на собственные силы. Поэтому нередко приходилось проводить массовые
наборы. “Того же лета прислал князь великои Иоанъ Васильевичъ воеводу своего
князя Федора Юрьевича и с людьми своими во Псковъ по псковскому челобитию в
помощь псковичемъ на Немецъ, месяца иоулиа в 8.., и быша во Пскове с неделю; .В
то же время князь псковскыи Иоанъ Олександровичъ и посадникы псковскыя начаша
совокоупляти пригорожяны изо всех пригородовъ и изо властеи людей;
совокоупившися псковичи с пригорожаны и со всеми людьми, и поидоша с воеводою
князя великого и съ ихъ силою за Великую рекоу к Новому городкоу немецкомоу, и
начаша съжидатися во Изборске.” [128; 154]. Таким образом,
всего за неделю было собрано войско со всей Псковской земли. При описании
подготовки к походу на Новгород по велению великого князя Ивана Васильевича в
1471 г. летописец сообщает: “.а всемъ Псковом начаша по всем концом роубитися
искрепка, а посадниковъ и бояръ великых на вече всем Псковом начаша оброубати
доспехы и с конмы.” [128; 180]. Следовательно, в конное войско привлекались
посадники и бояре великие по решению веча.
В битвах складывалось боевое братство, проявлялось подлинное единство
псковского народа. Под 1343 г. Синодального списка летописи читаем: “В лето
6851. Месяца маия въ 26 псковичи подъемше всю свою область и поехаша воевати
земля Немецкыя о князи Иване, и о князи Остафьи, и о посаднице Володце, и
воеваша около Медвежьи головы 5 днеи и 5 нощей, не слазяще с конеи, где преже
того не бывали ни отци их. И бысть егда възвратишася с полоном, и мало не
доехавшим Нового городка со две версты, нападошя на них погоня немецкая
множество на Мале борку на тесне. И сташа псковичи, ополчившеся, и
помолившеся святеи троици и прощение вземше друг с другомъ, съступишася с
Немци и на самыи Троичинъ день. И на первомъ сступе оубиша Кормана посадника
и Кюра Костинича и Онтона сына Ильина, и инех пскович 17 человек всех, и
помощию святыя троици одолеша Немцомъ, овех иссекоша, а инии ранени побегоша
посрамлени” [128; 25-26].
Демократизм псковского духа выражался также в том, что деятельность
должностных лиц (посадников, прежде всего) рассматривалась как волеизъявление
народа. Летописец Строевого списка при описании подписания мирного договора
между Новгородом и Псковом в 1434 г. пишет: “И пожяловалъ богъ и святыи Софеи
и владычне благословение, псковскаа челобитье приняли, и взяше миръ по
старине; и целовалъ крестъ Селивестръ посадник и Стефанъ сынъ посадничъ
Родионов и их дроужина за весь Псковъ и за вси пригороды и за вси волости к
Новгороду по старине; а от Новагорода целова крестъ Самсонъ посадникъ
Ивановичъ и тысяцкои Федоръ Елесеевичъ за весь Великои Новгород и за всеи
пригороды и за вси свои волости къ Псковоу по старине” [128; 130].
Вероятно, в псковском обществе границы между социальными слоями не были
слишком жесткими. Поэтому для инициативных, предприимчивых людей имелись
возможности сделать карьеру. В Строевой летописи об одном из наиболее удачных
походов псковичей сообщается: “Дивно бе се, братье, чюдо и дива исполнено и
достоино памяти, коль велице и страшне соущи брани, ни одинь человекь
псковской рати не паде, и не далече двема поутми, но и мость лежит троупья
немецкого, коуды бегли Немци. А иная сила псковскаа, нероублении люди,
охвочеи человекь в то же время ходиша за Изборско в слободоу, и воеваша
немецкоую власть, поимаша полона бесчислено, и приидоша сами здрави съ многым
полоном, а воеводою оу нихъ былъ Ивашко диакъ” [128; 153]. Выражение
летописца “Ивашка дьяк”, а не по имени и отчеству, как было принято во
Пскове обращаться к уважаемым людям, дает основание сделать вывод о том, что
командование военной операцией доверили человеку из низов, который с ней
справился блестяще. Примечательно, что в псковских летописях часто
фиксируються их потери в сражениях, которые составляли от нескольких человек,
до двух-трех десятков, что позволяет заключить о высокой ценности
индивидуальной человеческой жизни в псковской культуре.
Тема «вече»
Квинтэссенцией псковского свободолюбивого духа единения людей как граждан
вольного города было вече. Псковское вече являлось высшей формой
государственной власти, абсолютной ценностью. “Пригородное положение Пскова,
¾ справедливо отмечает В.О.Ключевский, ¾ отразилось на
авторитете его князя, когда город стал вольным. До того времени псковский
князь, присланный ли из Новгорода или призванный самим Псковом, был
наместником или подручником новгородского князя либо веча. Он и теперь
сохранил то же значение; только его прежнее отношение перешло к псковскому
вечу: он не разделял власти с этим вечем, а служил ему как наемный вождь
боевой дружины, обязан был защищать страну, исполняя поручения Пскова наравне
с посадниками, и за то получал определенный корм. Права новгородского князя,
участие в законодательстве и управлении, в назначении и смене должностных лиц
перенесены были не на псковского князя, а достались безраздельно тамошнему
вечу, которое сверх законодательства и суда по чрезвычайным и политическим
делам принимало еще деятельное участие в текущем управлении” [62; 2; 88-89].
Гласность, подотчетность должностных лиц вече были обычной практикой
государственной деятельности, которая воспринималась как давно и прочно
устоявшаяся традиция, по старине. Псковские послы после проведения
переговоров с королем Литвы, “и приехавъ во Псков, и ответъ королевъ на вече
в посольстве правили” [128; 179]. Во второй половине ХV в., когда силовое
давление московского великого князя на Псков значительно усилилось, частые
посольства псковичей в летописях заканчиваються описанием их возращения и
отчета на вече: “Тоя же зимы приеха посолъ псковскы с Москвы от князя Иоана
Васильевича, посадникъ Тимофеи Власьевич и бояре псковскые вси здорови, и
повестоваше посолство Псковскоу на вечи” [128; 151]. Синодальный список:
“Посадники же приехажа въ Псковъ, месяца иоуля въ 8 день (1486
г.¾В.М.), и правиша посолство свое на вечи” [128; 69]. Подпись и
ратификация внешнеполитических договоров происходили также на вече: “Великого
князя воевода Федоръ Юрьевичь и князь псковскои, и посадники псковьскии, и
всь Псковъ с послом князя местера рызского и арцибискупа рызского по их
челобитию за юрьевцов и за пискоупа юрьевьского и на всемъ на том и крестъ
целовася, и грамоты пописася, и печати своя привесися князя местера и
арцибискоуплю пред воеводою великого князя и пред всем Псковом на вече” [128;
156].
Вече освобождало от должности наместника князей. ''В лето 6971 (1463
г.¾В.М.). Выгнаша псковичи князя Володимира Ондреевича изо Пскова, а
иныя люди на вечи сь степени съпхнули его: и онъ поехал на Москву съ
бесчестиемъ к великому князю Ивану Васильевичу жаловатися на Псков'' [128;
52]. Следующий день после беспрецедентной в истории Псковской республики
резни 2 сентября 1476 г. на торгу, спровоцировонной творящим разбой и насилия
московскими людьми князя Ярослава, летописец Строевого списка описывает:
“Псковичи же на заутрея вече поставя, и князю Ярославоу отрексеся, его почаше
изо Пскова провадити” /128; 205].
Псковское вече было оперативным, действенным, высшим органом народного
управления. Когда в 1480г. на празднике обрезания “Исуса Христа” немцы
“Вышгородок взяли”., “а мужеи и женъ и детокъ малыхъ мечи иссекли., а инии
погорели от огня несть числа; и пригониша гонець нощию: оуже господа
псковычи, городокъ Немцы взяли. И посадники псковьскии вече звонили нощии 2-ж
(т.е. звонили дважды.¾В.М.), и поехаша посадники и моужи псковичи тои
ночи и на завътрея много поехали, тои ночи сроубившися, съ 4 сох конь” [128;
219]. Выходит ночью дважды звонили в вечевой колокол.
Непрерывная работа по благоустройству великого города
Во Пскове велись широкие работы по благоустройству города, каменное
строительство. Чаще всего упоминаються ремонт и строительство церквей и
крепостных стен. В.О.Ключевский насчитал за 19 лет (с 1370 по 1388 гг.)
строительство 14 каменных церквей [62; 2; 87]. Вместе с коллективным
строительством на общественные средства возводились мосты и др. на частные
пожертвования: “Тоя же осени псковичи поставиша новыи мостъ черезо Пъскову, а
даша мастером 60 рублеи, а платиша то серебро мясники” [128; 65]. Мостили
улицы: “Того же лета (1485 г.¾В.М.) повеле посадник Федос и всь Псковъ
намостити боуевище и около церки святыа Троица, и тынъ отыниша около церкви.
И посадникъ Микула и псковичи повелеша мастером намостити мостъ вонъ стене
Великоую оулиоу, а дроугую на Завеличьи Изборскую от Поромяни” [128; 120].
“Того же лета (1429 г.¾В.М.) Торгъ намостиша и на Черехе мостъ новеи”
[128; 125]. Под 1473 г. летописец отмечает не только каменное строительство,
но и разбивку общественного сада: “Тоя же весне около боуя святого Николе, оу
Вопочкомъ конци каменемъ оделавъ и врата каменыя изрядивъ, и садом яблонями
насадили” [128;193]. Аналогичные сообщения читаем в новгородских летописях:
“Того же лета (1334 г.¾В.М.) и город каменыи покрылъ владыка” [98;
346] или “В то же лето (1337 г.¾В.М.) боголюбивыи архиепископъ Василии
святую Софею тыном новым отыни, а у святеи Софеи двери ледяны золочены
устроил” [98; 347].
Пожары периодически сводили на нет многолетние усилия псковичей. Об одном из
самых сильных пожаров в 1550 г. в истории Пскова летописец пишет: “Лета 7058.
Месяца матра 23 день, нашего ради съгрешениа, загореся к томоу дни нощию оу
Пескахъ, оу святого Михаила оу манастыре; и погоре от Большои стене и до
Старого Застенья, от реки Пскве и до Великои реки, и Сарое Застенье, и ни
что же не оста, но токмо Трупеховыхъ оу полевыхъ воротъ оста 5 дворовъ да
поушечнеи сараи на Коневои площади. А каменныхъ церквей погорело 31, а в
Домантовы стены 2 церкви огорело. Ероусалим да Федоръ, тол же страшно
запаление и троскота, горение, яко бегати и мястися от страха и трепетоу и
боязни, и многым животамъ пригоревшим, яко умъ человечъ не исповесть. А
меншия люди начаша грабити богатыхъ людеи животы, а гасить не оучали, а все
то за наше сгрешение, рагоза и нелюбовь; а деревяныхъ церквей 15, а Михаила
святыи оу Песках церковъ развалилася, а Воздвиженье и Власеи церкви
порасседалися” [128; 231-232]. И снова строили, укрепляли,
благоустраивали город. Вероятно, Псков среди всех русских городов по
благоустройству больше других приближался к западноевропейским городам, хотя
и существенно им уступал в развитии инфраструктуры, красоты в
градостроительстве. “Город Псков, ¾ замечает С.Герберштейн,¾
единственный во всех владениях московита окружен (каменной) стеной и разделен
на четыре части [каждая из которых заключена в своих стенах]” [34; 151].
В русских городах вплоть до XVIII в., правления Петра I, практически
отсутствовала плановая застройка и гражданское строительство (зданий органов
управления, дворцов, школ, госпиталей и др.). Украшение городов фактически
сводилось к строительству церквей. Это обстоятельство также показывает, что в
ценностно-мыслительном пространстве русской культуры в целом, и Новгорода и
Пскова в частности, христианские ценности носили доминирующий и
всеохватывающий характер. Свойственное средневековью мировоспитание, согласно
которому за чувственно воспринимаемой объективной реальностью находится
сверхчувственная, непосредсвенно управляющая, божественная реальность, в
полной мере сохраняет свою силу. Поиск причин, объяснение происходящего
сводится к божественному или дьявольскому воздействию. Представляет интерес
осуществление реконструкции, выяснение своеобразия русского христианского
мировоспитания в XIV¾XVII вв. Но эта сложная проблема лежит за
пределами настоящего исследования. В этой связи важно подчеркнуть: если в
Западной Европе XIV¾XV вв. нарастающий кризис католицизма повлек за
собой падение веры и авторитета священослужителей, то в русской культуре и
вольных городах глубина религиозного чувства и искренность веры остаются
очень высокими, а к большей части священослужителей сохраняется большое
уважение и почитание. Вплоть до XVIII века в русской культуре только слой
клириков давал образцы высокой нравственности, служения и поведения для всего
общества.
В целом можно утверждать, что на Псковской земле гуманистические традиции
пустили наиболее глубокие корни. Псковкое общество и псковское общественное
сознание строилось на равноправии, свободе, законе, уважении прав человека,
христианской морали. Судная грамота (основной свод законов Псковской
республики) “дает предпочтительное значение присяге, ¾ пишет
В.О. Ключевский, ¾ отдавая обыкновенно на волю истца решить тяжбу этим
способом: “хочет, сам поцелует или у креста положит.” Такое доверие закона к
совести тяжущихся должно было иметь опору в характере самого быта” [62; 2;
91]. С.Герберштейн в своем труде о Московии только псковичей удостаивает
положительной оценки, при том очень высокой: “В результате просвещенные и
даже утонченные (! – В.М.) обычаи псковитян сменились обычаями московитов,
почти во всех отношениях гораздо более порочными. Именно псковитяне при
всяких сделках отличались такой честностью, искренностью и простодушием, что
[не прибегая к какому бы то ни было многословию для обмана покупателя]
говорили только одно слово, называя сам товар. Прибавлю также кстати, что
псковитяне и до сего дня носят прически [не по русскому, а по польскому
обычаю] на пробор” [34; 151].
Как и в Новгороде, во Пскове свято охраняют права и достоинство своих граждан
во внешних отношениях. “Того же лета (1463 г. – В.М.), ¾ пишет
летописец, ¾ Немци юрьевци посла псковского Кондрата сотцкого и гостя
псковского всадиша в погребъ, и псковичи немецкого гостя посадиша в погребъ,
а на мироу и на крестном” [128; 151]. В договорной грамоте от 30 декабря 1440
г. литовского князя Казимира с Псковом оговаривается: “А мне, великому князю
Казимиру, блюсти псковитина, как и своего литвина; такожъ и псковичомъ блюсти
литвина, как и псковитина” [40; 322].
Новгород – Псков и Московская Русь – разные миры
Таким образом, Новгород и Псков по сравнению с княжеской северо-восточной
Русью были существенно другими мирами как по ценностно-мыслительной,
тематической структуре, так и по направлености развития ментального
пространства. Христианство, единое пространство русской провославной церкви
объединяло эти обособленные миры. Вместе с тем выборность новгородского
архиепископа и других должностей клира, их большая роль в государственном
управлении, функции высшего авторитета, судьи в конфликтных ситуациях, в
целом значительно больший демократизм новгородской и псковской церковных
организаций и др. – все это в большей степени отличало их христианскую
ментальность. Светские ценностно-мыслительные ориентиры оказались почти
диаметрально противоположными. В авторитарном пространстве московской
культуры получали дальнейшее развитие Сила, Насилие и Страх. Новгородцы и
посковичи не знали тотального насилия, не ведали насилия, как духовного,
экономического, социального, политического гнета и связанного с ним жуткого
страха. В псковских летописях нашествие Батыя на Русь вообще не получило
отражения. В Новгороде и особенно во Пскове “силовое мышление” было в
значительной степени преодолено, разрушено, вытеснено демократически
ориентированным на правопорядок мировосприятием. Это были во многом разные,
чуждые друг другу миры, что дает основание называть их разными культурами. В
Новгородских письменных источниках термин “Русская земля” практически не
употреблялся. Новгородцы и псковичи не ощущали себя элементами “Русской
земли”. Под 1221г. новгородский летописец пишет: “Показаша путь новгородци
князю Всеволоду : “Не хочемь тебя; поиди, камо хочеши; иде к отцеви въ Русь”
[198; 60]. В новгородских грамотах северо-восточная Русь называлась “Низом”.
В договорной грамоте 1270 г. Новгорода с тверским великим князем Ярославом
Ярославовичем читаем: “А на Низу, княже, новгородца не судити, ни дании ти
раздавати” [40; 13]. Договорная грамота 1371 г, Новгорода с тверским великим
князем Михаилом Александровичем: “А приставовъ ти с Низу въ всю в
Новгородськую волость не всылати” [40; 30]. Описывая противоборство
новгородцев с тверским князем Михаилом, летописец под 1316г. пишет: “.и поиде
князь Михайло к Новгороду со всею Низовъскою землею” [98; 95]. В последние
дни существования Новгородской республики, в декабре 1477г. новгородские
послы пытались отстоять хоть какую-то автономию. Один из аргументов у них
был: “Великий Новгород Низового обычая не знает, не знает, как наши государи
великие князья держат свое государство в Низовской земле” [150; 3; 29].
Историки отмечают локальный, местный характер новгородских и особенно
псковских летиписей [128; 3]. И действительно, упоминания о московской земле
чаще всего связаны с деятельностью московского или другого князя, поскольку
последние в той или иной мере оказывали влияние на новгородскую или псковскую
жизнь. Примечательны сообщения о Куликовской битве в псковских летописях.
Синодальный список: “В лето 6888. Князь великии Дмитрии и вси князи рускыя
бишася с Тотары за Доном. Того же лета в озере Чюдьскомъ истопоша 24 лодеи
псковскых” [128; 29]. Строевой список: “В лето 6888. Высть похваление поганых
Татаръ на землю Роускую: бысть побоище велико, бишася на Рождество святыа
богородица, в день соуботныи до вечера, омеркоше бьючися; и пособи богъ
великомоу князю Дмитрею, биша на 30 версть гонячися. А в то время в озере в
Чюдскомъ истопло 24 лодьи” [128; 106]. В Строевом списке нашествие Тохтамыша,
разорение Москвы даже не упоминается. А в Синодальном списке читаем: “В лето
6890. Взята бысть Москва от царя Тартаныша. Того же лета князь местерь с
силами и князь Скиригаило с Литвою придоша к Полочку, и стояше 13 недели,
отъидоша не взмеше” [128; 29].
Новгород и Псков, с одной стороны, а княжеская , затем Московская Русь, с
другой, были существенно различными ментальными реальностями, с различными
судьбами и траекториями духовного развития. Не следует забывать, что
новгородский и псковский миры складывались и развивались, в целом
просуществовали приблизительно три с половиной столетия (от смерти Владимира
Мономаха и распада Киевской Руси до завоевания и разрушения их Москвой)
Новгород и Псков, конечно, не элементы западноевропейской культуры. Они есть
порождение русского духа, древнерусской культуры. Новгород и Псков обозначили
самую симпатичную, самую позитивную, перспективную траекторию развития
русского общества, русской культуры, которой не суждено было реализоваться.
Очень странно, что разрушение столь красивых ментальных миров Иваном III, а
затем его сыном Василием единодушно описывается русскими и советскими
историками со злорадством, восторгом, как некое доброе деяние в деле
“собрания русских земель”.
Разрушение новгородского мира
Накануне. По мере расширения Московского княжества во второй половине XV
в. за счет захвата земель других княжеств и наращивания силового давления все
более необходимой становилась задача подчинения Новгородской и Псковской
республик, разрушения их вольнолюбивого духа. Для Ивана III захват мятежного и
богатого Новгорода представлял особый интерес. Однако, высокий духовный,
нравственный авторитет новгородского архиепископа Ионы до времени сдерживал его
хищнические притязания в отношении Великого Новогорода. Чтобы отвести угрозу от
новгородцев, архиепископ Иона уже в преклонные годы вынужден был по приглашению
митрополита Ионы и московских князей Василия и Ивана совершить поездку в
Москву. “Знал ведь он, ¾ пишет автор “Повести об Ионе, архиепископе
новгородском'', что строятся из зависти злые козни против людей его и города,
поэтому – то с присушей ему простотой и смирением пришел он на помощь городу и
людям, воистину – добрый пастырь, готовый душу свою положить за овец своих!”
[108; 363]. “Ныне же услышь мою просьбу, ¾ говорил Иона, ¾ и
увещевания мои прими, как благочестивый князь и превосходящий других князей во
многих добрых делах. Из-за какой-либо нечестивой клеветы не накажи невиновных,
спокойно взирай на повинных в рабство свободных людей”. Мудрый Иона за ворохом
различных претензий к новгородцам ясно видел суть происходящего, поэтому
просил: “не отдавай и не отдавай в рабство свободных людей” [108; 365].
В этой повести содержиться любопытная оценка новгородской жизни накануне
московского завоевания: “А земля Новгородская пребывала в полной тишине, и не
слышно было войн во все дни архиепископства его. И новгородцы по наставлению
Ионы жили в любви между собой, никогда не затевали междоусобных распей друг с
другом. А земля плодоносила больше, чем в другие годы, и во всех новгородских
и псковских пределах было изобилие всяких плодов. Таково было благословение,
дарованное господом богом городу нашему по его молитвам, и все наслаждались
многочислееными благами, веселье и радость всюду, и не было ни вражды, ни
мятежа, но тишина, мир и любовь – во все годы епископства его” [108; 371]. “.
радовались люди божьим дарам, без тревог и печалей жили, веселясь” [108;
373]. Делая скидку на элемент идеализации новгородской жизни, следует
заметить, что после падения Пскова, последнего оплота русского свободного
республиканского духа, при всем желании нельзя найти в русской истории вплоть
до конца XX века подобной оценки, когда бы русские люди просто жили и
радовались жизни, потому что так называемое “воссоединение” или “собирание
русских (а впоследствии и не русских) земель вокруг Москвы” было процессом
завоевания, распространения на захваченных территориях духовного гнета Силы,
Насилия и Страха, установления атмосферы тотального рабства и несвободы, как
фундаментальной ценностно-тематической структуры. Она может принимать
временами более или менее смягченные формы, но в целом остается неизменной
базовой ценностно мыслительной-конструкцией русского духа, вплоть до конца XX
столетия. Всякий акт “воссоединения” сопровождался разбоем, грабежами,
насилиями, разрушениями в захватываемой земле, что в целом приводило ее к
деградации.
Смерть архиепископа Великого Новгорода Ионы 8 ноября 1470 г. сделала
новгородцев беззащитными перед лицом московской интервенции. Нет
необходимости воспроизводить историческую последовательность завоевания
Иваном III Новгородской земли, важно проанализировать культурологический
аспект этого процесса – разрушение новгородского ценностно-мыслительного
пространства и установление ментальности Московского государства.
Две “партии” в новгородском обществе. После избрания нового архиепископа
Феофила новгородское общество раскололось на две партии, которые условно можно
назвать партиями “Литвы” и “Москвы”. Летописцы донесли до нас в выкриках на
вече концентрированное выражение позиций каждой из сторон. Первые призывали:
“Не хотим за великого князя московского, не хотим называться его отчиною, мы
люди вольные; не хотим терпеть обиды от Москвы, хотим за короля Казимира” [150;
3; 14]. Социальную базу этого движения, вероятно, составляли средние и низшие
слои новгородского общества, т.е. большинство. Суть и вся правда этого движения
заключалась в двух выражениях, в двух самых сильных аргументах: “мы люди
вольные” и “не хотим терпеть обиды от Москвы”. Партия “Литвы” была партией
свободы, открытой конфронтации с Москвой в борьбе за независимость, за свою
“вольность”. Для всех новгородцев было очевидно: установление власти Москвы
подобно татаро-монгольскому игу, если не хуже. Это конец вольной, полноценной,
составлявшей плоть и кровь, новгородской жизни. Но также было очевидно, что
Новгород в одиночестве не может противостоять Москве, за спиной которой стояли
все княжества северо-восточной Руси и татары.
Лозунг противной стороны гласил: “Хотим, по старине, к Москве! Нельзя нам
отдаться за короля и поставить владыку у себя от митрополита-латинца”
[150; 3; 14]. Аргументация представителей этой партии была достаточно
сильной. Во-первых, они опирались на принцип старины. Понятие “старины”
было одним из фундаментальных представлений, основополагающих ценностей,
определявших социальный порядок и своеобразие ментального бытия того периода.
Социальное устройство, старина, закладывались, согласно общепринятым
представлениям, в эпоху Киевкой Руси, потому что ссылки на старину обычно
относятся к киевскому периоду Руси. Традиционалистски ориентированное
мировоззрение на старину имело глубокие мифологические корни, было
порождением “мифологического мышления”, его пережитком. Как известно, в
мифологическом мировоззрении различают “мифологическое время” как эпоху
творения первопричин закладывания универсального мирового порядка и
“профанное время” как бытие механического повторения, воспроизведения ранее
созданных отношений и взаимодействий.
Вплоть до XVIII века, до правления Петра I, период Киевской Руси
воспринимался в северо-восточной Руси как эпоха творения древнерусского
общества, как старина, задававшая весь строй социальной жизни,
фундаментальный его законопорядок. Творение мыслилось только и исключительно
как божественное творение и, таким образом, получало божественное освящение и
оправдание. Очевидно, что открытое отрицание старины воспринималось как
святотаство.
Мышление того периода было традиционалистским, но не было историческим. Эпоха
Киевской Руси ушла в далекое прошлое. В новгородских договорных грамотах
всегда важное значение придавалось ссылкам на старину как способе обоснования
независимости Новгорода. По мере укрепления независимости Новгородской земли
от великих князей (сначала суздальских, тверских, а затем московских)
представления новгородцев о старине становились все более модернизированными,
более демократичными. Эту тенденцию нетрудно проследить по тем же
новгородским грамотам.
Иван III фундаментальный принцип старины истолковывал выгодным для себя
образом. “Теперь это слово “старина”, ¾ отмечает С.М.Соловьев,
¾ в устах великокняжеских получило особое значение: до сир пор в
отношении к великим князьям новгородцы имели важное преимущество, действовать
воимя старины; теперь, замышляя подданство литовское, они теряли это
преимущество переходившее на сторону великого князя: сперва новгородцы не
требовали от князей ничего более, кроме исполнения старинных условий; теперь
великий князь требует от новгородцев сохранения старины” [150; 3; 1].
Оправдывая завоевание и разрушение Москвой Новгорода, С.М.Соловьев слишком
формально истолковывает принцип старины: “При всех этих распоряжениях
Иоанновых ни один из старых обычаев, ни одно из старых условий не были
нарушены: перемирие с соседним государством было заключено владыкою и
Новгородом, но с ведома и по приказанию князя; по жалобе новгородцев Иоанн
судил, сменил и наказал посадника, ибо имел право верховного суда над всеми,
имел право сменять чиновников, объявив только их вину; при этом Иоанн
выполнил в точности старинный обычай: давши на обличенных своих приставов,
требовал, чтобы Новгород дал также и своих; он заточил осужденного посадника
и его товарищей в Москву, но и это была старина: Владимир Мономах, Святослав
Ольгович заточали на юг бояр новгородских, и после в договорах это право не
было отнято у князей. Иоанн не нарушил ни в чем старины, но давно уже
новгородцы отвыкли от нее, ибо в продолжение многих веков великие князья не
пользовались своими правами, а новгородцы, пользуясь настоящим, забыли и о
прошедшем, и о будущем” [150; 3; 24].
Другим сильным возражением против союза с литовским князем Казимиром было
опасение экспансии латинства, притеснения и утраты веры по русскому
православному обряду, без которой жизнь представлялась немыслемой. Социальную
основу этого движения составляло большинство посадников, тысяцких, бояр,
житьих людей, купцов, т.е. элита новгородского общества. Следует уточнить,
что название “партия Москвы” является весьма условным. С большой долей
уверенности можно предположить, что последовательных, принципиальных
сторонников Москвы в Новгороде было немного. Партию Москвы составляли
умудренные опытом люди, которые видели бесперспективность открытого военного
столкновения с Иваном III. Силы были слишком неравные. Поэтому они, с одной
стороны, придерживались мягкой, дипломатической борьбы за независимость, с
другой ¾ надеялись и под Иваном III сохранить свое имущество и
политическое влияние в противостоянии с новгородской чернью.
Перед лицом внешней опасности между новгородцами образовался глубокий роскол.
“И так взволновался весь народ их, – пишет автор ''Московской повести о
походе Ивана ІІІ на Новгород,''– и всколыхнулись все, как пьяные: те хотели
до великого князя по старине, к Москве, а другие – за короля, к Литве. И
великая смута была у них, и сражались друг с другом, и сами на себя
поднялись.” [108; 379]. Победила партия Литвы, а точнее, партия свободы,
открытой борьбы за независимость. Новгородские послы, опытные дипломаты и
большие мастера в заключении договоров, быстро заключили договор с литовским
королем, который, по нашому мнению, гарантирует Новгороду суверинитет,
прежнее демократическое устройство и свободу православного вероисповедания.
Приведем основные статьи Договорной грамоты 1470¾1471 гг. польского и
литовского великого князя Казамира IV с Великим Новгородом, в которой
тщательно выписаны ограничения литовской стороны, обеспечивающие
политическую, экономическую и религиозную независимость Новгородской
республики: "Се язъ честны король польскии и князь великии литовскии
докончялъ есми миръ с нареченнымъ на владычьство съ Феофиломъ, и с посадники
новогородцкими и с тысяцкими, из бояры, и съ житьими, и с купци, и со всемъ
Великимъ Новымъгородомъ. А приехаша ко мне послове от нареченаго на
владычьство Феофила, и от посадника степенного, и от тысяцкого степенного
Василья Максимовичя, и от всего Великого Новагорода мужей волныхъ посадникъ
новогородскии Офонос Остафьевичь, посадникъ Дмитреи Исаковичь, и Иванъ
Кузминъ, сынъ посадничъ, а от житьихъ Панфилеи Селифонтовичь, Кирило
Ивановичь, Якимъ Яковличь, Яковъ Зиновьевичь, Степанъ Григорьевичь. Докончялъ
есми с ними миръ и со всемъ Великимъ Новымъгородомъ, с мужи волными. А
держати ти, честны король, Велики Новъгородъ на сеи на крестнои грамоте. А
держати тобе, честному королю, своего наместника на Городище от нашей веры от
греческои, от православнаго хрестьянства. А наместнику твоему без посадника
новогородцкого суда не судити. А от мыта кун не имати. А Великому Новугороду
у твоего наместника суда не отьимати, опричь ратнои вести и городоставлениа.
А судити твоему наместнику по новогородцкои старине. А дворецкому твоему жити
на Городище на дворце, по новогородцкои пошлине. А дворецкому твоему пошлины
продавати с посадникомъ новогородскими приставы. А наместнику твоему, и
дворецкому, и тиуну быти на Городище в пятидесяти человекъ. А наместнику
твоему судити с посадникомъ во владычне дворе, на пошломъ месте, как боярина,
так и житьего, такъ и молодшего, так и селянина. А судити ему в правду, по
крестному целованью, всехъ равно. А пересудъ ему имати по новогородцкои
грамоте по крестнои, противу посадника; а опричь пересуда посула ему не
взяти. А во владычень судъ и в тысяцкого, а в то ся тебе не вступати, ни в
манастырскиа суды, по старине. А поидетъ князь велики московскии на Велики
Новъгородъ, или его сынъ, или его братъ, или которую землю подъеметъ на
Велики Новъгородъ, и о тебе нашему господину честному королю вести на конь за
Велики Новъгородъ и со всею съ своею радою литовскою противъ великого князя,
и боронити Велики Новъгородъ. А коли, господине честны король, не умиривъ
Великого Новагорода с великимъ княземъ, а поедешь в Лятцкую землю или в
Немецкую, а бес тебе, господине, поидетъ князь велики, или его сынъ, или его
братъ, или кою землю подоиметъ на Велики Новъгородъ, ино твоей раде литовскои
всести на конь за Велики Новъгородъ, по твоему крестному целованию, и
боронити Новгородъ. А что Ржова, и Великиа Луки, и Холмовски погостъ, четыре
перевары, а то земли новгородцкие; а в то ся тебе, честному королю, не
вступати, а знати тебе своя черна куна, а те земли к Великому Новугороду. А
Ржеве, и Лукамъ, и Холмовьскому погосту, и инымъ землямъ новгородцкимъ и
водамъ от Литовскои земли рубежъ по старине.А сведется новгородцу судъ в
Литве, ино его судити своимъ судомъ, а блюсти новгородця какъ и своего брата
литвина, по крестному целованию. А сведется судъ литвину в Великомъ
Новегороде, ино его судити своимъ судомъ новгородцкимъ, а блюсти его какъ и
своего брата новгородця. по крестному целованию тако ж... А на Новгородцкои
земле тебе, честны король, седъ не ставити, ни закупати, ни даромъ не
примати, ни твоеи королевои, ни твоимъ детемъ, ни твоимъ кнеземъ, ни твоимъ
паномъ. ни твоимъ слугамъ. А приставовъ тебе, честны король, не всылати во
все волости новгородцкие. А у нас тебе, честны король, веры греческие
православные нашеи не отъимати. А где будетъ намъ, Великому Новугороду, любо
в своемъ православномъ хрестьянстве, ту мы владыку поставимъ по своей воли. А
римскихъ церквей тебе, честны король, в Великомъ Новегороде не ставити, ни по
пригородомъ новогородцкимъ, ни по всей земли Новогородцкои. А тиуну твоему в
Торжку судити судъ с новогородцкимъ посадникомъ; такожъ и на Волоце, по
новогородцкои пошлине, новогородцкимъ судомъ; и виры и полевое по
новгородцкому суду. А что во Пскове судъ и печять и земли Великого
Новагорода, а то к Великому Новугороду, по старине. А умиришь, господине
честны король, Велики Новъгородъ с великимъ княземъ, ино тебе взяти честному
королю черны боръ по новогородцкимъ волостемъ по старине одинова, по старымъ
грамотамъ, а в ыные годы черны боръ не надобе. А Немецкого двора тебе не
затворяти, [ни приставовъ своихъ не приста] вливати; а гостю твоему торговати
с немци нашею братьею. А посломъ и гостемъ на обе половины путь имъ чистых,
по Литовскои земле и по Новогородцкои. А держати тебе, честны король, Велики
Новъгородъ в воли мужей волныхъ, по нашей старине и по сеи крестнои грамоте.
А на томъ на всемъ, честны король, крестъ целуи ко всему Великому Новугороду
за все свое княжество и за всю раду литовскую, в правду, без всякого извета.
А новгородцкие послове целоваша крестъ новогородцкою душею к честному королю
за весь Велики Новъгородъ в правду, без всякого извета” [40; 130-
132].
Нашествие московитов. Иван III, не дожидаясь зимы, когда болота, реки и
озера станут проходимыми, двинул первые свои отряды на новгородцев в начале
июня. Если к московскому князю помощь приходила со всех сторон (были привлечены
и татары), то Новгороду не было помощи ниоткуда. Литовский король военными
средствами новгородцев не поддержал. "Братья же великого князя все со многими
людьми,¾ пишет автор “Московской повести о походе Ивана III на
Новгород”,¾ каждый из своей вотчины, пошли разными дорогами к Новгороду,
пленяя, и пожигая, и людей в полон уводя; так же и князя великого воеводы то же
творили, каждый там, на какое место был послан. Ранее посланные же воеводы
великого князя, князь Данило Дмитриевич Холмский и Федор Давыдович, идя по
новгородским пределам, где им приказано было, распустили воинов своих в разные
стороны жечь, и пленить, и в полон вести, и казнить без милости жителей за их
неповиновение своему государю великому князю. Когда же дошли воеводы те до
Русы, захватили и пожгли они город; захватив полон и спалив все вокруг,
направились к Новгороду,к реке Шелони" [108; 389].
Кульминацией противоборства между Москвой и Новгородом была битва при реке
Шелони. Несмотря на значительное численное превосходство (новгородцев было до
40 тыс. против 4 тыс. московитов), новгородцы были обречены на поражение.
Воины московских воевод пребывали в ярости, не нуждались в психическом и
моральном настрое, "...с большими силами собравшиеся на противников, –
подобно тому, как прежде прадед его,¾ пишет с негодованием автор
"Московской повести...",¾ благоверный великий князь Дмитрий Иванович,
на безбожного Мамая и на богомерзкое его воинство татарское, так же и этот
благоверный и великий князь Иван на этих отступников. Ибо хотя и христианами
назывались они, по делам своим были хуже неверных. Вот и пошел на них князь
великий не как на христиан, но как на язычников и на отступников от правой
веры" [108; 387]. Апофеоз жестокости под личиной христианской святости.
Новгородцы проиграли сражение еще до его начала. Мы отвлекаемся от анализа
военных аспектов этого события, неорганизованности, непрофессиональности и
т.д. новгородского войска. Для нас представляет интерес прежде всего
ментальная сторона Шелонской битвы. Важно подчеркнуть отсутствие единства
среди новгородцев. Автор "Новгородской повести о походе Ивана III Васильевича
на Новгород" пишет: "...конное войско не подошло к пешему войску на помощь
вовремя, потому что отряды архиепископа не желали сразиться с княжеским
войском, говоря: "Владыка нам не велел на великого князя руки поднять, послал
нас владыка против псковичей". И стали новгородцы кричать знатным людям,
которые прибыли с войском к Шелони: "Сразимся сейчас”, но каждый говорил: "Я
человек небольшой, подрастратился конем и оружием" [108; 405].
И в этой связи возникает вопрос: насколько новгородцы осознавали, что они
стоят на пороге конца, конца вольной жизни, за которую они сражались с
беспрецедентным в русской истории упорством с внешними и внутренними врагами
не одно столетие? На наш взгляд, новгородцы, в отличие от граждан
западноевропейских вольных городов, например, Италии, не осознавали в полной
мере фундаментальную, абсолютную ценность в их социальном и ментальном бытии
свободы. Понятие "свободы" есть категория осознанного бытия, рефлексивного
сознания, плод рефлексивной культуры. В истории Флоренции и Великого
Новгорода, при всем различии между ними, просматриваются некоторые аналогии:
наличие крупного финансового капитала, его концентрация в руках небольшой
группы финансовых магнатов, острые противоречия между богатыми и городской
беднотой, политическая нестабильность, политическая активность городских
низов в отстаивании своей свободы и др. Однако флорентийцы отличались большей
развитостью всех этих отношений и, в частности, более глубоким пониманием
свободы. "Истоию Флоренции" Н.Макьявелли можно назвать трудом о свободе,
борьбе отдельных слоев и всех вместе граждан за свободу, потому что последняя
являлась основным и осознанным мотивом их поведения. Приведем один из
эпизодов. Когда в 1342 г. герцог Африканский сконцентрировал в своих руках
большую власть и возникла угроза флорентийской демократии, часть членов
Сеньории отправилась к герцогу, и один из них обратился к нему с речью и, в
частности, сказал: "Вы хотите обратить в рабство город, который всегда жил
свободно, ибо власть, которую мы в свое время вручали королям неаполитанским,
означала содружество, а не порабощение. Подумали ли вы о том,что означает для
такого города и как мощно звучит в нем только слово "свобода"? Слово,
которого сила не одолеет, время не сотрет, никакой дар не уравновесит.
Подумайте, сеньор, какие силы потребуются,чтобы держать такой город в
рабстве... Нет сомнения, что время не может заглушить жажду свободы, ибо
сколь часто бывали охвачены ею во многих городах жители, никогда сами не
вкушавшие её сладости, но любящие её по памяти, оставленной их отцами, и если
им удавалось вновь обрести свободу, они защищали ее с великим упорством,
презирая всякую опасность. А если бы даже этой памяти не завещали им отцы,
она вечно живет в общественных зданиях, в местах, где вершили дела
должностные лица, во всех внешних признаках свободных учреждений, во всем,
что стремятся на деле познать все граждане. Какие же деяния рассчитываете вы
совершить, способные уравновесить сладость свободной жизни или вытравить из
сердца граждан стремление вернуть нынешние установления? Нет, ничего такого
не удастся вам сделать..." [88; 294-295].
Новгородцы такого глубокого понимания свободы как фундаментальной ценности их
социального бытия не обнаруживают. Поэтому применительно к новгородскому и
псковскому ментальным мирам целесообразно говорить не о теме "свободы", а о
теме "вольности" как форме невполне осознанного бытия свободы. Как уже
отмечалось, основным поборником вольности в Новгороде были городские низы,
как, впрочем, и во Флоренции пополаны. Любопытно, что при московском
завоевании во много раз больше теряла новгородская знать, которая не
проявляла большой активности.
Автор "Московской повести..." отмечает широкий социальный состав
новгородского войска: "А новгородские посадники, и тысяцкие, и с купцами, и с
житьими людьми, и мастера всякие или, проще сказать, плотники и гончары, и
прочие, которые отродясь на лошади не сидели, и в мыслях у которых того не
бывало, чтобы руку поднять на великого князя, всех их те изменники силой
погнали, а кто не желал выходить на бой, тех они сами грабили и убивали, а
иных в реку Волхов бросали; сами они говорили, что было их сорок тысяч в том
бою" [108; 391]. Автор-московит, являясь тенденциозным, открыто москво-
центристским источником, преувеличивает принудительный характер формирования
новгородского войска. Какой нужно обладать политической и полицейской силой,
чтобы согнать 40 тысяч воинов? Кстати, опять отмечается нежелание и даже
опасение (грех перед богом идти против старины) "руку поднять на великого
князя".
После катастрофического поражения новгородцев тот же автор пишет о большом
количестве, до 12 тыс. убитых и пленных до 2 тыс.: "схватили живьем более
двух тысяч; схвачены и посадники их: Василий Казимир, Дмитрий Исаакович
Борецкий, Кузьма Григорьев, Яков Федоров, Матвей Селезнев, Василий Селезнев
¾ два племянника Казимира, Павел Телятев, Кузьма Грузов, а житьих
множество" [108; 391]. Перечисление посадников и последняя фраза "а житьих
множество" указывает на достаточно активное участие в битве зажиточных людей.
Другое сражение в Двинской волости двинян с московским войском было более
напряженным. Битва продолжалась целый день,"бились до захода солнечного, и,
за руки хватая, рубились, и знамя у двинян выбили, а трех знаменосцев под ним
убили: убили первого, так другой подхватил, и того убили, так третий взял,
убив же третьего, и знамя захватили. И тогда двиняне взволновались, и уже к
вечеру одолели полки великого князя и перебили множество двинян и заволочан”
[108; 395]. Жаркая схватка у р.Двины показывает, что новгородская провинция
еще более отчаянно сражались за свою свободу.
Тотальное рпзрушение. Операция по "присоединению" к Москве в 1471 г.
дорого обошлась новгородцам. "А били челом великому князю шестнадцатью тысячами
серебром в новгородских рублях, кроме братьев великого князя и князей прочих:
бояр, и воевод, и всех остальных, которые ходатайствовали за них; а земля их
вся пленена и сожжена до самого моря, ибо не только те были, которые с великим
князем и с братьями его, но и со всех сторон пешею ратью ходили на них, и
псковская вся земля от себя их завоевывала. Не бывало на них такого нашествия
с тех пор, как и земля их стоит" [108; 397]. В результате этого похода Ивана
III была подорвана экономическая, политическая и военная мощь Новгорода. Он
перестал быть великим.
После 1471 г. Иван III осуществлял дальнейшее разрушение новгородского мира в
двух основных направлениях: путем подрыва экономического и политического
могущества новгородской элиты с последующей её ликвидацией и путем
дезорганизации системы управления Новгородской земли и замены ее московским
чиновничим аппаратом.
В ноябре 1475 г. Иван III по прибытии в Новгород челобитья не принял и
заявил: "Известно тебе, богомольцу нашему, и всему Новгороду, отчине нашей,
сколько от этих бояр и прежде зла было, а нынче, что ни есть дурного в нашей
отчине, все от них; так как же мне их за это дурное жаловать?” [150; 3; 24].
Это высказывание Ивана III положило начало устойчивой традиции в русской
культуре в формировании образа бояр как главного источника смут и
неприятностей в государстве. У Ивана III обвинения и приследования были
направлены на новгородских бояр. Во время правления его сына Василия и
присоединения Пскова уже без обвинений подверглись репрессиям псковские
бояре. В обоих случаях главную опору великого князя составило московское
боярство. Иван IV, превратив всех в рабов, придал гонениям на бояр
универсальный характер.
Как уже отмечалось, новгородская знать среди всех слоев новгородского
общества была наиболее лояльна, терпима к власти великого князя, что явилось,
на наш взгляд, главной причиной реализации облегченного для Москвы сценария
завоевания Великого Новгорода. В 1475 г. жестокая сила московского князя и
вакханалия насилия 1471 г. существенно изменили свободолюбивое сознание
новгородцев. Жуткий страх уже, вероятно, парализовал их волю. Новгородские
посадники во главе с архиепископом Феофилом, бояре, житьи люди, купцы
попытались откупиться. Ставки были очень высоки. Чтобы взять на поруку
обвиненных Иваном III, ему было выплачено 1500 рублей. За исцовые убытки
великий князь велел взыскать с виновных 1500 рублей, судных пошлин. "С 4
декабря начались пиры у знатнейших новгородцев для великого князя и
продолжались до 19 января: каждый хозяин дарил гостя ковшами золотыми,
деньгами, мехами, рыбьими зубьями, сукнами, ловчими птицами, вином, лошадьми.
Те посадники и тысяцкие, которые не успели дать пиров для великого князя,
подносили ему дары, какими хотели дарить на пирах; из купцов и житых людей не
остался ни один, который бы не пришел с дарами, даже и молодые
(незначительные) люди многие были у него с дарами и челобитьем; степенный
новоизбранный посадник Фома Андреевич Курятник вместе с тысяцким поднесли ему
1000 рублей" [150; 3; 24]. Для сравнения следует заметить, что псковичи, со
слов летописцев, давали в качестве дара от всего Пскова от 50 до 150 рублей.
Но эти богатые дары не смягчили их печальную участь.
В 1477 г. новгородское ментальное пространство было окончательно
разрушено. Новгородский мир как специфическая ценностно-мыслительная
реальность перестал существовать. Вече было упразднено, вечевой колокол был
снят и отвезен в Москву. В Новгородской земле была установлена московская
система управления и московская администрация. Иван III, въезжая в Новгород,
сказал во всеуслышиние:"Я, государь ваш, даю мир всем невинным, не бойтесь
ничего!''. В тот же день 50 человек главных врагов Москвы были захвачены и
пытаны. Архиепископ новгородский Феофил был взят и отослан в московский Чудов
монастырь под стражу, богатство его отобрали в казну; 100 главных
заговорщиков подверглись смертной казни. 100 семей детей боярских и купцов
разосланы по низовым городам. Но и этим дело не кончилось, говоря современным
языком, "зачистка территории" продолжалась еще долго. В 1484 г. по доносу до
30 человек больших и житых людей было схвачено, дома их разграблены, сами
подвергнуты пытке; когда их приговорили к смертной казни, то перед виселицею
стали они прощаться друг с другом и каяться, что напрасно клепали друг на
друга на пытке. Услыхав об этом, великий князь не велел их вешать, но велел
сковать и посадить в тюрьму, а жен и детей их послать в заточение. В 1487 г.
переведено из Новгорода во Владимир 50 семей лучших купцов. В 1488 г. привели
из Новгорода в Москву больше 7 тыс. житых людей за то, что хотели убить
наместника велико- княжеского Якова Захарьича; некоторых Яков казнил еще в
Новгороде, других казнили в Москве, остальных отправили на житье в Нижний,
Владимир, Муром, Переяславль, Юрьев, Ростов, Кострому и другие города; на их
место посланы в Новгород из Москвы и других городов низовых дети боярские и
купцы [150; 3; 32-33]. Эта бесчеловечная, своеобразная
"ротация" очевидно преследовала цель вытравить свободолюбивый дух
новгородцев.
В завершение самого общего описания этой расправы нельзя не привести
свидетельство С.Герберштейна. Оно содержит некоторые неточности (например,
относительно битвы на реке Шелони), но является очень важным, потому что
точно воспроизводит общественное мнение в Московии в первой трети ХVI в.,
т.е. полвека спустя падения Новгорода, поскольку С. Герберштейн тщательно и
корректно собрал и воспроизвел этот материал. Он пишет:"В то время как этим
княжеством управлял по своей воле архиепископ, на них напал московский князь
Иоанн Васильевич и семь лет подряд вел с ними жестокую войну. Наконец в
ноябре месяце 1477 года по рождестве Христовом он победил новгородцев в битве
на реке Шелони и, принудив их на определенных условиях подчиниться его
власти, поставил от своего имени наместника над городом. Но, считая, что он
еще не располагает полной властью над ними, и понимая, что не может
достигнуть этого без войны, он явился в Новгород под благочестивым предлогом,
желая будто бы удержать новгородцев, которые якобы собирались отпасть от
русского закона (в латинство); пользуясь таким поводом, он занял Новгород и
обратил его в рабство. Он отнял все имущество у архиепископа, граждан, купцов
и иноземцев и, как сообщали некоторые писатели, отвез оттуда в Москву триста
повозок, нагруженных золотом, серебром и драгоценными камнями. Я тщательно
расспрашивал в Москве об этом и узнал, что повозок с добычей увезено было
оттуда гораздо больше. Да это и неудивительно, ибо по взятии города он увез с
собой в Москву архиепископа и всех более богатых и влиятельных лиц, послав в
их владения как в новые места обитания своих подданных" [34; 148]. Следует
обратить внимание, что в восприятии жителей Московии эта акция Ивана III
рассматривается не иначе, как завоевание Новгорода, для цивилизованного
человека С.Герберштейна ¾ жестокое завоевание с установлением рабства.
Миф о "собирании русских земель вокруг Москвы" более позднего происхождения.
С.Герберштейн четко фиксирует плоды такого "воссоединения русских земель":
"Некогда, во время процветания этого города, когда он был независим,
обширнейшие его земли делились на пять частей; каждая из них не только
обращалась со всеми общественными и частными делами к установленному и
полномочному в этой части магистрату, но и заключать какие бы то ни было
сделки и беспрепятственно вершить дела с другими своими гражданами могла
исключительно в своей части города, и никому не было позволено в каком бы то
ни было деле жаловаться какому-либо иному начальству этого города. В то время
здесь было величайшее торжище всей Руссии, так как туда стекалось отовсюду
¾ из Литвы, Швеции, Дании и из самой Германии ¾ огромное число
купцов, и от столь многолюдного стечения разных народов граждане умножали
свои богатства и достатки. ...И хотя эти области, полные рек и болот,
бесплодны и недостаточно удобны для поселения, тем не менее они приносят
много прибыли от своих мехов, меда, воска и разнообразных рыб. ...Народ там
был очень обходительный и честный, но ныне крайне испорчен, чему, вне
сомнения, виной московская зараза, занесенная туда заезжими московитами" [34;
147-148; 150].
В 1489 г. была порабощена московским князем Вятка. Было направлено 64-х
тысячное войско. Когда воеводы князя Даниил Щеня и Григорий Морозов подошли к
главному городу Хлынову, горожане заперлись. Когда московиты стали готовиться
к штурму, вятчане сдались. "Воеводы развели всю Вятку, взяли лучших людей,
купцов и отправили их с женами и детьми в Москву" [150; 3; 35]. Затем купцов
поселили в Дмитрове.
Падение Псковской республики
Тактика разбоя. История падения Пскова с точки зрения культурологии
представляет собой печальный опыт взаимодействия цивилизованного и варварского
обществ. С восхождения на престол Ивана III в 1462 г. начинаются трудности у
Пскова во взаимоотношениях в Москвой. Действия Псковской республики по
отношению к Москве были безупречны. Псковичи не допускали недружественных
акций, не давали никаких оснований для подозрений в сепаратизме (установления
союза с Литвой), смиренно принимали решения московских правителей, пытались
строить отношения с Москвой на принципах справедливости и законопорядка,
неукоснительно следовали старине. Московская сторона, напротив, от послов
московского князя-наместника и до великого князя строила свое поведение в
соответствии с варварской моралью: делалась ставка на физическую и военную
силу, полное отрицание принципов справедливости и правопорядка в отношении
псковского населения, взяточничество, вымогательство, вероломство и прямые
разбои ¾ вот далеко не полный перечень характерных деяний московитов.
Приведем несколько показательных тому примеров. За всю историю Пскова самые
острые конфликты возникли у псковичей с присланным Иваном III князем
Ярославом Васильевичем Оболенским. С.М.Соловьев, пересказывая повествование
летописца под 1476 г., пишет: "Между тем во Пскове вследствие всеобщего
озлобления на князя Ярослава вспыхнуло волнение, какого, по словам летописца,
никогда не бывало, ни при одном князе: вез какой-то пскович с огорода капусту
через торг, мимо княжеского двора; один из княжеских слуг схватил кочан и дал
княжему барану, и за это началась ссора у псковичей с княжедворцами, от ссоры
дело дошло до драки: слуги наместничьи стали колоться ножами, псковичи
¾ отбиваться камнями; княжедворцы пошли на весь мир с ножами на торг,
а иные с луками и начали стрелять, другие ¾ ножами колоться, псковичи
обороняться, кто камнем, кто деревом и убили княжеского повара; сам князь
Ярослав, пьяный, в панцире, выскочил и начал стрелять. Весть о побоище
пронеслась по всему городу, и вот пошли на торг посадники, бояре, житые люди
с оружием, но уже время было к вечеру, и князь с своими слугами пошел на
сени, укрощенный добрыми людь ми;
разошлись и псковичи, из которых многие умерли от ран. Ночью, однако,
вооруженные посадники и житые люди всем Псковом держали стражу на торгу,
слыша от княжих слуг угрозу, что зажгут город и во время пожара будут бить
псковичей. На другое утро псковичи поставили вече и отреклись князю Ярославу,
стали провожать его из Пскова, а к великому князю послали грамоту, прописав в
ней все, что случилось; но Ярослав из Пскова не едет, дожидается посла от
великого князя, и псковичи ждут того же; Ярославу ничего не делают, не мстят
ему за его насилия" [150; 3; 37].
Некоторые московские послы вели себя на Псковской земле как чистые
разбойники. Старшему послу, Ивану Товаркову, псковичи дали 15 рублей, дьяку
¾ 5 рублей, младшему послу Юрию Шестаку ¾ 10 рублей; но Юрий 10
рублей не принял. И все это псковское добро их не тронуло, говорит летописец:
приехавши на рубеж, всех провожатых ограбили, лошадей и платье отняли, самих
прибили да и деньги отняли; давно в Пскове не бывало таких послов: ничем их
нельзя было удобрить, в две недели стоили они 60 рублей, кроме даров [150; 3;
38].
Когда Иван III прислал другого князя, псковичи немного выиграли от перемены
наместника: Василий Шуйский, по словам летописца, был князь невоинственный и
грубый, только и знал, что пил да грабил, и много всей земле грубости
наделал. Неизвестно, каким образом сменен был Шуйский и на его место прислан
опять князь Ярослав Васильевич Оболенский, при котором с 1483 года начались
опять сильные волнения [150; 3; 39].
Захват и разрушение Пскова. В 1509 г. приехало псковское посольство в
составе 9 посадников и купеческие cтаросты всех рядов в Новгороде, когда там
пребывал великий князь Василий Иванович, с жалобой на обиды от наместника князя
Ивана Михаиловича Репни¾Оболенского, от его людей, от его наместников
пригородских и от их людей, т.е. на всю систему московского насилия на
Псковской земле. ''Великий князь управы им не дал, но объявил: "Сбирайтесь
жалобщики на Крещение, тогда я вам всем управу дам, а теперь вам управы никакой
нет''. Жалобщики возвратились домой и, когда подошел срок, отправились опять в
Новгород. В самый праздник Крещения Василий велел псковичам собраться и идти на
реку на водосвятие, где был и сам с крестным ходом; потом бояре объявили им:
"Посадники псковские, бояре и жалобщики! Государь велел вам всем сбираться на
государский двор, а кто не пойдет, тот бы боялся государевой казни, потому что
государь хочет дать вам всем управу". Псковичи отправились с реки на владычный
двор; посадники, бояре и купцы введены были в палату, а младшие люди стояли на
дворе. И вот вошли в палату московские бояре и сказали псковичам: "Пойманы вы
богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси". Посадников посадили тут
же, в палате, а младших переписали и отдали новгородцам по улицам беречь и
кормить до управы [150; 3; 227]. Вероломство московского князя выступает как
норма, как закон, освященный богом.
Таким образом, становится очевидным существенное различие, несовместимость
двух ментальных миров, псковского, основанного на равноправии,
справедливости, законе и христианских ценностях, и московского, насыщенного
духом Силы, Насилия и Страха, странным образом освящаемого официальной
русской православной церковью.
Нам осталось проследить разрушение светлого, развитого, целостного,
цивилизованного, православно-христианского псковского духовного мира через
описание С.М.Соловьева, синтезирующего повествования псковских летописных
списков. "Псковичи узнали об участи посадников от купца своего Филиппа
Поповича, который услыхал весть на дороге в Новгород, бросил товар и поскакал
во Псков сообщить её гражданам. На псковичей напал страх, трепет и тоска,
гортани их пересохли от печали, уста пересмякли; много раз приходили на них
немцы, но такой скорби еще им не бывало, как теперь, говорит их летописец.
(Итак, сначала во Псков пришел Страх перед вероломной, неукротимой, свирепой
Силой московского князя. Следует заметить, что псковичи были, безусловно,
самым стойким и отважным народом северо-восточной Руси. Псковичи мужественно,
чаще всего в одиночку, сражались за свою свободу и независимость с литовцами
и немцами. Псковские летописи пестрят от описаний подобного рода. Но этот
Страх парализовал их волю.– В.М.). Собрали вече, начали думать, ставить ли
щит против государя, запираться ли в городе. Помянули крестное целование, что
нельзя поднять рук на государя, а посадники и бояре и лучшие люди все у него.
Порешивши, что сопротивляться нельзя, псковичи послали к великому князю гонца
Евстафия, соцкого, бить челом со слезами: "Чтоб ты, государь, жаловал свою
отчину старинную; а мы, сироты твои, прежде были и теперь неотступны от тебя
и сопротивляться не хотим; бог волен да ты в своей отчине и в нас, своих
людишках". С объявлением воли великоняжеской приехал в Псков дьяк Третьяк
Далматов, который сказал на вече от имени Василия:"Если отчина моя хочет жить
в старине, то должна исполнить две мои воли: чтоб у вас веча не было и
колокол вечевой был бы снят; быть у вас двум наместникам, а по пригородам
наместникам не быть; в таком случае вы в старине проживете (Василий
приступает к реализации оправдавшего себя сценария, осуществленного при
захвате Новгорода его отцом Иваном III, который предусматривает, прежде
всего, разрушить демократическую местную систему самоуправления и заменить её
авторитарной, хищнической бюрократической московской системой. И не беда, что
для этого нет никаких даже формальных оснований.¾ В.М.); если же этих
двух волей не исполните, то как государю бог на сердце положит: много у него
силы готовой, и кровопролитие взыщется на тех, кто государевой воли не
сотворит; да государь велел вам еще объявить, что хочет побывать на поклон к
св. Троице во Псков" (никакой другой аргументации, полное отсутствие
апелляции к добродетели, справедливости, законности, только диктат
Силы.¾ В.М.). ...Псковичи ударили челом в землю и не могли слова
промолвить, потому что глаза у них наполнились слезами, только грудные
младенцы не плакали; наконец, собравшись с духом, отвечали дьяку: "Посол
государев! Подожди до завтра: мы подумаем и обо всем тебе скажем”; тут опять
все горько заплакали. “Как зеницы не выпали у них вместе со слезами? Как
сердце не оторвалось от корня своего?” ¾ говорит летописец.
Думать псковичам было нечего, день прошел в плаче, рыданиях, стонах,
бросались друг к другу на шею и обливались слезами. Задержанные в Новгороде
посадники и бояре писали к ним, что дали Василию крепкое слово своими душами
за себя и за всех псковичей исполнить государево приказание, писали, что
общая гибель будет следствием сопротивления великому князю, у которого
многочисленное войско. На рассвете другого дня позвонили к вечу, Третьяк
приехал, и псковичи сказали ему: ”В летописях наших написано, с прадедами,
дедами и с отцом великого князя крестное целование положено, что нам,
псковичам, от государя своего, великого князя, кто бы ни был на Москве, не
отойти ни в Литву, ни к немцам; отойдем в Литву или к немцам или станем жить
сами собою без государя, то на нас гнев божий, голод, огонь, потоп и
нашествие поганых; на государе великом князе тот же обет, какой и на нас,
если не станет нас держать в старине; а теперь бог волен да государь в своей
отчине, городе Пскове, и в нас и в колоколе нашем, а мы прежней присяге своей
не хотим изменять и на себя кровопролитие принимать, мы на государя рук
поднять и в городе запереться не хотим; а хочет государь наш, князь великий,
помолиться живоначальной Троице и побывать в своей отчине, во Пскове, то мы
своему государю рады всем сердцем, что не погубил нас до конца" (В этой речи
псковичей в полной мере проявляется осознание ими утраты обустроенного,
благополучного бытия на основе справедливости и законопорядка (старины) и
перехода к бытию произвола и насилия государя и его наместников.
Примечательно окончание речи, в которой они благодарят, что “не погубил до
конца”(!). Но псковичи еще не знают, что московский князь Василий задумал их
погубить именно до конца ¾ В.М.) 13 января 1510 года сняли вечевой
колокол у св. Троицы и начали псковячи, смотря на колокол, плакать по своей
старине и по своей воле (Всем своим существом псковичи чувствовали разрушение
основных своих ценностей: справедливого законопорядка (старины) и
вольности.¾ В.М), и в ту же ночь Третьяк повез вечевой колокол к
великому князю в Новгород.
За неделю до приезда великого князя приехали воеводы его с силою
(выделено¾В.М.) и повели псковичей к крестному целованию, а посадникам
сказали, в какой день великий князь будет во Пскове: посадники, бояре, дети
боярские, и посадничьи, и купцы поехали в Дубровино встречать государя, который
приехал во Псков 24 января. В тот же день рано приехал владыка коломенский и
объявил духовенству, что великий князь не велел встречать себя далеко;
духовенство осталось, а псковичи встретили его за три версты от города и
ударили челом в землю; государь спросил у них о здоровье (! ¾ В.М.), они
отвечали: ”Ты бы, государь наш, князь великий, царь всея Руси, здрав был”(таким
образом псковичи выразили полную покорность Василию. ¾ В.М.). На торгу
встретил владыка коломенский с псковским духовенством; в Троицком соборе пели
молебен и кликали многолетие государю; благославляя его, епископ сказал: ”Бог
тебя, государь, благославляет взятием Пскова” (С.М. Соловьев опустил конец
фразы епископа”...без брани”. ¾ В.М.); которые псковичи были тут в
церкви и слышали это, заплакали горько. ”Бог волен да государь, ¾
сказали они, ¾ мы были исстари отчиной отцов его, дедов и прадедов”. На
четвертый день великий князь велел быть у себя посадникам, боярам, купцам и
житым людям, чтоб пожаловать их своим жалованием, как было им сказано (Какое
коварство и вероломство! Примечательно, что они воспринимаются как норма,
обычная практика.¾ В.М.) Когда они собрались, то князь Петр Васильевич
Великий перекликал некоторых из них по списку и велел им идти в гридню, где их
всех отдали под стражу; менее же значительным псковичам, оставшимся на дворе
Петр сказал:, ”До вас государю дела нет, а до кого государю дело, тех он к себе
берет; а вас государь пожалует своею жалованною грамотою, как вам вперед жить”.
Лучшие псковичи вышли из гридни с приставами, отправились по своим дворам и в
ту же ночь стали сбираться в Москву с женами и детьми, взяли с собою только что
полегче, а прочее все бросили и поехали наспех с большим плачем и рыданием (в
этих массовых переселениях новгородцев и псковичей закладывалась печальная
традиция в русской культуре, получившая невиданный размах в ХХ в. в сталинских
репрессиях, депортациях народов. ¾ В.М.); поехало всего тогда 300 семей.
Далее С.М. Соловьев приводит слова летописца, в которых признается, что беда
постигла псковичей за самоволие и непокорение друг другу, за злые поклепы и
лихие дела и т.д. [150,2,228-230]. Но летописец Окончания Архивного 2-го списка
в своем плаче был глубже: ” И тогда отъятся слава псковская, и бысть плененъ не
иноверными, но своими единоверными людьми. И кто сего не восплачет и не
возрыдает. О славнейшии граде Пскове, великии во градех, почто бо сетуеши и
плачеши. И отвеща прекрасныи град Псков: како ми не сетовати или како ми не
плакати и не скорбети своего опустения. И прилетел бо на мя многокрыльный
орелъ, исполнь крыле львовых ногтей, и взять от мене три кедра ливанова, и
красоту мою, и богатство, и чада моя восхити, богу попустившу за грехи наша, и
землю пусту сотвориша, и град наш разориша, и люди моя плениша, и торжища моя
раскопаша, а иные торжища конешим каломъ заметаша, и отецъ и братию нашу
разведоша, где не бывали отцы, и деды, и прадеды наша, и тамо отцы, и братию
нашу, и други наша заведоша, и матери, и сестры наша в поругание даша. И мнози
тогда мужи и жены постригошася во иноческий образъ, не хотяще итти в пленъ от
своего града” [128; 257].
Великий князь послал боярина Петра Яковлевича Захарьина (Кошкина) поздравить
Москву со взятием Пскова, а сам жил во Пскове четыре недели, устраивал (!
¾ В.М.) новый быт: деревни сведенных бояр псковских он роздал своим
боярам: в наместники назначил Григория Морозова и Ивана Челяднина, дьяком
Мисюря Мунехина, другим ямским дьяком ¾ Андрея Волосатого, назначил 12
городничих, 12 старост московских и 12 псковских, дал им деревни и велел
сидеть в суде с наместниками и тиунами, стеречь правды (! ¾ В.М.): дал
псковичам уставную грамоту; послал своих наместников по пригородам и велел
привести пригорожан к крестному целованию; из Москвы присланы были во Псков
добрые (! ¾ В.М.) люди, гости числом 15 для установления тамги,
потому что во Пскове прежде тамги не было, торговали беспошлинно и для
делания денег на новый чекан; присланы были из Москвы также пищальники
казенные и воротники: а уезжая, великий князь оставил во Пскове 1000 человек
детей боярских и 500 новгородских пищальников. К Троицыну дню того же года
приехали купцы ¾москвичи на место сведенных псковских, 300 же семей из
10 городов, и начали им давать дворы в Среднем городе, а псковичей всех
выпроводили в Окольный город и на посад. Летописец продолжает: ”А дворов было
в Застеньи 6500. А пригородов были во Псковскои земли 10 и два городища:
Кобылье и Вышегородище. А все были жилы, а стали пусты от наместников их и
тиунов (“добрых людей” ¾ В.М.)” [128; 258].
Летописец жалуется на первых наместников.”У наместников, ¾ говорит он,
¾ у тиунов их и дьяков (т.е. у всех. ¾ В.М.) правда, крестное
целование взлетели на небо, а кривда начала между ними ходить; были они
немилостивы к псковичам, а псковичи бедные не знали суда
московского;наместники пригородные торговали пригорожанами, продавали их
великим и злым умышлением, подметом и поклепом; приставы наместничьи начали
брать от поруки по 10, 7 и 5рублей,а кто из псковичей сошлется на уставную
грамоту великого князя, как там определено, почему брать с поруки, того они
убъют; от их налогов и насильства многие разбежались по чужим городам,
бросивши жен и детей; иностранцы, жившие во Пскове, и те разошлись в свои
земли, одни псковичи остались, потому что земля не расступится, а вверх не
взлететь” (Описание летописца вакханалии насилия, устроенной “добрыми людьми”
московитами ¾ это рассказ цивилизованного человека, для которого
христианский гуманизм, закон, справедливость не пустые слова, а непременные
условия человеческого существования. С.Герберштейн, Дж. Флетчер дали бы
подобную оценку, если бы были свидетелями происходивших событий во
Пскове.Примечательно, что московиты действовали в обычном для них режиме. То,
что летописцу и псковичам представлялось как вопиющие безнравственные,
противозаконные проступки, как преступления, для Московии было обыденным
явлением; с той только разницей, что деяния московских ставленников были
несколько жестче, нахальнее, потому что всегда при захвате более
демократических народов (новгородцев, псковичей, украинцев, поляков и т.д.) у
московитов возникал варварский азарт победителя: разграбить, унизить,
растоптать побежденного, превратить его в большего раба, чем они сами.
¾ В.М.). Слух о таком поведении наместников дошел до великого князя: в
следующем же 1511 году он свел Морозова и Челяднина, и на их место прислал
двоих князей ¾ Петра Великого и Семена Курбского; Петр был прежде
князем во Пскове и знал всех псковичей. Новые наместники были добры до
псковичей, ¾ говорит летописец, ¾ и вот горожане, которые
разошлись, начали опять собираться во Псков. Наместники эти жили
четыре года.” [150; 3; 228-232]. “А на третеи год после псковскаго взятия,
¾ продолжает летописец, ¾ ходил князь великои под Смоленск с
силою и с народом; а со Пскова взял 1000 пищальников и псковских земцев,
тогда еще не сведены быша с своих вотчинъ (напомним, земцы ¾ это
крестьяне, владевшие землей на правах собственности. Выходит, сведение с
собственности, переселение касалось не только лучших людей, самых богатых
бояр, купцов, житых людей, но и носило тотальный характер. ¾ В.М.) и
много пскович тогда на приступе побиша” [128; 259]. В результате всех этих
“мероприятий” коренных псковичей носителей христиански-гуманистического,
демократического псковского духа, вероятно, почти не осталось. Так был
разрушен один из самых привлекательных, развитых ментальных миров северо-
восточной Руси - Псков.
Под 7049 г.(1541) летописец Строевого списка приводит любопытный эпизод:”А
князь Андрей Михайлович Шюискои, а он былъ злодеи; не судя его писах, но дела
его зла на пригородех, на волостех, старые дела исцы наряжая, правя на людех
ово сто рублей, ово двесте, ово триста, ово боле, а во Пскове мастеревыя люди
все делали на него даром, а большии люди подаваша к немоу з дары; а и хлеб
тогда былъ дорог. И князь великии Иоан Васильевич пожаловалъ свою отчину
Псковъ далъ грамоту судити и пытати и казнити псковичам разбойниковъ и лихих
людей; и бысть Псковоу радость, а злыа люди разбегошася, и бысть тишина, но
на не много, и паки наместники премогоша, а то было добро велми по всеи
земли” [2]. Приведенный рассказ летописца убедительно показывает сколь
неэффективна, антигуманна по своей сути московская система управления,
насколько тяжелым гнетом она ложится на общества (новгородское и псковское) с
большими демократическими традициями, что достаточно предоставить возможность
большей свободы, самоуправления и ситуация быстро может измениться в лучшую
сторону. “Собирание” Москвой Русских земель или образование Русского
централизованного государства закладывало траекторию ненормального,
болезненного развития русского общества и культуры, основанного на жестокой
системе рабства.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Ценностно-мыслительные пространства Новгородской и Псковской республик
существенно отличались по своей фундаментальной тематической структуре и
траектории развития от остальной северо-восточной княжеско-дружинной Руси.
Тематическое пространство новгородо-псковской духовной культур генерируется
двумя тематическими центрами, гражданской и христианской ФТС.
Гражданская ФТС структурируется темами “вольности”, ”равноправия”,
”справедливости”, “веча”, “закона”, “старины” “Великогого Новгорода”,
“Пскова” и др. Христианская ФТС конструируется множеством основоположений
христианского вероучения русского православия XII ¾ ХV вв., системой
христианской морали. Важнейшее место в этом смысловом поле занимает тема
“церкви” как центрального храма города (новгородская св. София и псковская
св.Троица).
Эти две относительно самостоятельные тематические системы взаимно влияют,
взаимно проникают, взаимно накладываются друг на друга и образуют прочное
целое ценностно-мыслительное пространство новгородо-псковской культуры.
Взаимовлияние в частности проявляется в том, что субпространство, образуемое
христианскими темами-ценностями, дает обоснование тематическому
субпространству, конструируемому доминирурующей темой “вольности” В свою
очередь, последнее придает новгородо-псковскому православному христианству
более демократическую окраску.
Существенным моментом стабилизации ментального пространства и его дальнейшего
развития новгородской и, особенно, псковской культур было преодоление темы
“силы”, “силового мышления”.
Вместе с тем, существенное отличие новгородской и псковской культур от
княжеско-дружинной культуры северо-восточной Руси не дает основания относить
их к одной из форм западноевропейской культуры. Ценностно-мыслительные
пространства Новгорода и Пскова значительно отличаются от ментальных
пространств вольных западноевропейских городов как по способу
функционирования, так и по тематической структуре. Более полно эти различия
будут проанализированы ниже. Здесь лишь отметим, что западноевропейская
культура по способу функционирования, начиная с Древней Греции, относится к
ярко выраженному типу рефлексивной культуры, для которой характерна
замкнутость на себя, непрерывная работа средствами литературы, философии,
искусства и др, по самоосмыслению, самосовершенствованию,
самоконструированию. В Новгороде и Пскове подобная работа почти не велась. В
настоящее время мы располагаем столь малым числом новгородских и псковских
письменных источников не столько потому, что они были утрачены, сколько
потому, что из-за отсутствия рефлексивной установки, на осознание самое себя,
своего собственного бытия подобных продуктов человеческого творчества было
произведено очень немного. Новгородская и псковская, как и княжеско-дружинная
культуры северо-восточной Руси относились к типу экзистенциальных культур,
функционирование которых, их бытие ограничивалось их существованием, не
удваивалось их рефлексивной оценкой. Поэтому в новгородской и псковской
культурах нет осознания специфики своего ментального бытия (например,
свободы, всей категориальной структуры общественного сознания).
Как мы увидим ниже, важнейшими составляющими фундаментальной тематической
структуры ценностно-мыслительного пространства западно-европейской культуры
являются темы “рациональности”, “прекрасного”, ”любви”, сложный тематический
комплекс, обозначаемый словами “добродетель”, “доблесть”, ”честь” и др. Этот
огромный ментальный массив, составляющий основания ментального пространства
западноевропейской культуры XII¾ХVI вв., в новгородской и псковской,
как и в княжеско-дружинной культуре, проявляется лишь в зародышевой форме.
“Собирание русских земель вокруг Москвы” в отношении Новгородской и Псковской
республик представляло собой варварский захват, разрушение новгородского и
псковского ментальных миров. Миф о “собирании...” является выражением
москвоцентристской историографии, выступает анахронизмом, препятствует
осуществлению корректного исторического и культурологического анализа.
§4. Цесаризация и авторитаризация ментального пространства русской культуры
во второй половине ХV ¾ ХVII вв.
Ментальное пространство русской культуры рассматриваемого периода
формировалось двумя существенно различными ценностно-тематическими системами,
православно-христианской и деспотической (так обозначим систему
нехристианских ценностных ориентаций), несовместимость между которыми
приводила к пространственным разрывам, определявшим болезненный,
антигуманный, ненормальный характер культурно-исторического процесса.
Проследим в самом общем плане становление двух фундаментальных тематических
структур как двух систем абсолютных ценностей русской культуры и
взаимоотношение между ними, которые в совокупности составляли каркас,
основополагающую структуру ценностно-мыслительного пространства русской
культуры, задававшую метрику и основные направления его развертывания.
Тема ''царя''
Образование русского централизованного государства во второй половине ХV в.
предопределило основные ценностно-тематические сдвиги в ментальном
пространстве русской культуре. Средоточием ценностно-мыслительного процесса
стала тема "царя". Казалось, вся работа русско-московского духа была
направлена на это творение. В поисках абсолютных ценностей русской культуры
второй половины ХV ¾ ХVII вв. с необходимостью приходишь к выводу о
наличии только двух доминирующих тем ¾ "бога" и "царя" в русской
культуре. А поскольку произвол московского царя никем не был ограничен
(фактически даже богом, потому что представление о божественном происхождении
власти московских самодержцев не накладывало ответственности и наказания за
их самые противохристианские деяния, делая таким образом бога de facto
вынужденным их соучастником), то тема "царя" приобретает настолько
самодовлеющий характер, что все другие темы-ценности, как увидим ниже,
выступали лишь как средство. Это обстоятельство бросается в глаза внешним
наблюдателям, прежде всего западно-европейцам, которые единодушно его четко
фиксируют в своих произведениях.
Исходной предпосылкой возвышения московского князя было превосходство в Силе
и наиболее выраженная агрессивность по отношению к удельным князьям. Как уже
отмечалось, первоначально преобладание в Силе давал московским князьям ярлык
на великое княжение, предоставлявший им представительство в землях северо-
восточной Руси и авторитет неукротимой мощи золотоордынского хана. Постоянная
прописка ярлыка на великое княжение в Московском княжестве способствовала
быстрому наращиванию как материальных и людских ресурсов, так и собственных
сил, благодаря захвату земель удельных князей и т.д. "Великий князь, ¾
пишет В.О. Ключевский, ¾ пока поднимался над удельными не объемом
власти, а только количеством силы, пространством владений и суммой доходов"
[62; 2; 102]. В то время, как возвышалась (усиливалась) Москва внутренние
раздоры, усобицы и др. в Золотой Орде приводили к существенному её
ослаблению. Сила и могущество Власти татарского хана как бы перетекали в меха
московского князя, и в конце ХV ¾ начале XVI вв. они в Силе и Власти
поменялись местами. После захвата и разрушения Новгородской земли власть
московского князя Ивана III действительно стала великой, подобной власти
татарского хана Золотой Орды. Никто не мог противостоять его силовому
давлению.
В ментальном пространстве русской культуры конца ХV – первой трети XVI гг.
абсолютная власть московского князя нашла отражение в теме "царя" и в
авторитарном, централизованном характере формирования его структуры.
Важнейшим условием развертывания темы "царя" было осуществление её
пространственной локализации как высшего, сакрального образования. Внешним
выражением этого процесса явилось каменное строительство Иваном III с помощью
итальянских мастеров Московского Кремля (Успенского собора, Грановитой
палаты, каменного дворца), развитие сложного и строгого церимониала, который,
по справедливому замечанию В.О.Ключевского, "сообщал такую чопорность и
натянутость придворной московской жизни" [62; 2; 115], отражавшего рабское
положение царского придворного окружения.
"...Обращение князей с народом было в древности самое простое: всякий, кому
надо было, мог свободно прийти к князю в терем. Так продолжалось до конца ХV-
го столетия. Но со времени женитьбы великого князя Ивана Васильевича III на
греческой царевне Софье Фоминишне двор получил новое устройство, установлены
были новые придворные обычаи и торжественные обряды. Пышная, великолепная
обстановка царского сана утвердилась окончательно при царе Иване Васильевиче
Грозном.
Особенный почет, воздаваемый царскому величеству, требовал, чтобы ко двору
приходили пешком, оставляя лошадей и экипажи на известном расстоянии от
дворца: низшие чиновники не могли въезжать даже в Кремль, а входили в него
пешком. Боярин, въехавший на царский двор, заключался в тюрьму и лишался даже
чести, т.е. боярского сана. Простой народ, еще издали завидя царское жилище,
благовейно снимал шапку, воздавая честь местоприбыванию государя... Если кто-
нибудь попадал нечаянно и по незнанию на царский двор и особенно во
внутренние постельные отделения, того хватали, допрашивали, а иногда
подвергали даже пытке... Никто не смел являться во дворец, с каким бы то ни
было оружием, даже иностранные послы и их свита должны были снимать его при
входе в приемную залу." [49; 32-33]. "Какой-то парень,¾ пишет
Н.Евреинов, ¾ выстрелил по скворцу на царском дворе, пуля скользнула и
упала в царские покои. Стрелку отсекли левую руку и правую ногу." [30; 29].
Формирование цесарского ментального субпространства выразилось также в
появлении нового, более торжественного языка с пышной терминологией.
Развитие темы "царя" происходило по трем основным направлениям. Наиболее
важным обоснованием претензий на царский титул был "византийский аргумент":
Иван III в 1472 г. женился на племяннице последнего византийского императора
Софье Палеолог. В начале ХVI в. в московской летописи в описании родословия
русских князей появляется сказание о происхождении их рода от римского
императора Августа, вселенского монарха, который разделил свою империю между
братьями. Одного из них Пруса посадил на землях, которые по его имени зовутся
Прусской землей, "а от Пруса четырнадцатое колено ¾ великий государь
Рюрик" [62; 2; 117].
Вторым сильным аргументом правомерности царских амбиций была собственная
традиция, принцип старины. Никто из современников не сомневался в том, что
московские князья являлись правопреемниками, законными наследниками власти
киевских князей над Русской землей. Между тем, в московской летописи,
составленной уже при Иване IV, вводится еще одна идея византийского и
римского наследства. Согласно летописи, византийский царь Константин Мономах,
чтобы прекратить войну с киевским князем Владимиром, сыном его дочери,
отправил в Киев крест из животворящего дерева, царский венец со своей головы
(мономахову шапку) и сердоликовую чашу, из которой пил римский царь Август.
Греческий митрополит якобы венчал Владимира этим венцом, который и стал
зваться Мономахом, боговенчанным царем Киевской Руси. При этом в расчет не
бралось, что Константин Мономах умер за 50 с лишним лет до вступления своего
внука на киевский стол.
Третьим, может быть и первым, непререкаемым аргументом была идея
божественного происхождения царской власти московского государя. Одновременно
активно развивалась и внедрялась в общественное сознание концепция о "третьем
Риме". Действительно, падение Византийской империи в 1453 г. и появление
самого большого в Европе государства Московии в конце ХV ¾ начале XVI
вв. для русского населения создавало впечатление перехода царствующей
благодати на Русскую землю.
Таким образом, в конце ХV ¾ начале ХVI вв. в духовном пространстве
русской культуры сформировалась высшая, самодовлеющая, цесарски-сакральная
реальность, которая, как абсолютная ценность, стала сосредоточием энергии
московско-русского духа. Это обстоятельство привело к фундаментальной
экзистенциальной перестройке формирующегося русского духа, строя русской души
– тотальному представлению о жизни как средстве, жизни как служении. В
отличие от западноевропейской культуры, в которой в это же время одной из
центральных проблем была проблема индивидуального счастья, счастья вообще, в
русской культуре она оказалась полностью элиминированной, она не могла быть
даже поставлена. Этому способствовала также религиозная направленность на
бытие после смерти.
Что касается содержательной структуры цесарски-сакральной реальности,
доминирующей темы "царя", то она оказалась очень бедной, почти пустой. Образ
московского царя не предполагал высокий авторитет разума, добродетели,
справедливости, милосердия. Московское самодержавие не только не
стимулировало их развитие, но, напротив, жестко блокировало. Духовное бытие
московских царей было достаточно примитивным. Так, Иван III обвинил князя
Патрикеева, который позволял себе суждения о невежестве московского общества,
низком уровне образования, в высокоумии. Верность слову, уважительное
отношение к достоинству человека, милосердие совершенно не просматриваются в
их деяниях. Напротив, коварство, вероломство царя рассматривались как обычная
практика, которая не только не осуждалась, но воспринималась как форма
проявления мудрости. Вспомним истоки этой традиции ¾ восхищение
хитростью княгини Ольги по отношению к древлянам, византийскому императору
как её мудростью.
В 1491 г. по договору с крымским ханом Менгли-Гиреем Иван III велел своим
удельным братьям послать свои полки на помощь. Удельный князь углицкий Андрей
своих полков не послал. Когда через три месяца князь Андрей приехал в Москву,
то был принят старшим братом очень почетно и ласково. С.М. Соловьев так
описывает арест князя Андрея: "На другой день явился к нему посол с
приглашением на обед к великому князю; Андрей поехал немедленно, чтоб
ударить челом за честь; Иоанн принял его в комнате, называвшейся западней,
посидел с ним, поговорил немного и вышел в другую комнату, повалушу,
приказавши Андрею подождать, а боярам его идти в столовую гридню, но как
скоро вошли туда, так были схвачены и разведены по разным местам. В то же
время в западню к Андрею вошел князь Семен Ряполовский с многими другими
князьями и боярами и, обливаясь слезами, едва мог промолвить Андрею:
"Государь князь Андрей Васильевич! Пойман ты богом да государем великим
князем Иваном Васильевичем всея Руси, братом твоим старшим". Андрей встал и
отвечал: "Волен бог и государь, брат мой старший, князь великий Иван
Васильевич; а суд мне с ним перед богом, что берет меня неповинно"... В то же
время послали в Углич схватить сыновей Андреевых, Ивана и Димитрия, которых
посадили в железах в Переяславе, дочерей не тронули" [150; 3; 52]. Князь
Андрей умер в конце 1494 г.
Специально создавалась обстановка взаимной вражды, подозрительности,
предательства, в которой не было места благородству, верности,
справедливости. В княжестве Северском держали волости князь Василий Иванович
Стародубский и, внук Шемяки, князь Василий Иванович Новгород-Северский. По
словам С.М. Соловьева, Шемячич своими наветами уже сгубил
несколько князей. С другой стороны, князь Василий Семенович Стародубский
обговаривал Шемячича Василию III. Последний вынужден был постоянно
оправдываться перед великим князем. Примечательно, Василий III, отправляя к
Шемячичу опасную грамоту для приезда в Москву, наказывал посланным:
"3аезжайте к князю Василию Семеновичу, скажите ему от нас речь о береженье да
похвальную речь ему скажите" [150; 3; 272]. Когда Шемячич прибыл в Москву,
великий князь велел сказать ему: "Мы у слуги своего, князя Василия, на тебя
речей никаких не слушали. Мы как прежде нелепым речам не потакали, так и
теперь не потакаем, а тебя, слугу своего, как прежде жаловали, так и теперь
жалуем и вперед жаловать хотим; обыскали мы, что речи на тебя нелепые, и мы
им теперь не верим" [150; 3; 273]. Шемячич был отпущен с честью из Москвы в
свое княжество. Это было в 1517 г. Но в 1523 г. он был опять позван в Москву
и заключен в темницу. Его волость была присоединена к Москве. Волость
Стародубская была присоединена еще раньше к Москве, при посредстве Шемячича,
который выгнал своего врага из отчины [150; 3; 273].
В 1517 г. Василий III узнал, что рязанский князь Иван Иванович вошел в
сношения с крымским ханом Магмет-Гиреем и хотел жениться на его дочери.
Василий послал звать рязанского князя в Москву: тот сначала не хотел ехать,
предвидя участь, его ожидавшую, "Но, ¾ пишет С.М.Соловьев, ¾
что случилось с князьями нижегородским и тверским, то же самое случилось
теперь и с рязанским: приближенный боярин его Семен Крубин... предался на
сторону Василия и уговорил своего князя отправиться в Москву, где его
схватили и посадили под стражу, а мать его заключили в монастырь." [150; 3;
271]. В 1521 г. рязанскому князю удалось убежать в Литву. Рязань также была
присоединена к Москве. "С рязанцами, ¾ пишет С.М.Соловьев, ¾
которые отличались смелым и непреклонным характером, было поступлено также
же, как с новгородцами и псковичами: многочисленными толпами переселяли их в
другие области" [150; 3; 272]. Присоединение Рязани, как и Новгорода и
Пскова, означало внедрение московской ментальности, основанной на силе и
беззаконии, на Рязанской земле.
Сила против закона
Во всех этих историях примечательно полное отсутствие правового поля. Власть
московского царя была настолько абсолютно неограниченна, что не возникало
даже мысли о хотя бы формальном судебном рассмотрении. Любое волеизъявление
царя было законом. Если в западноевропейской культуре в первой половине
второго тысячелетия тема "закона" являлась одной из фундаментальных,
абсолютных ценностей, выступавшей одним из главных средств вытеснения темы
"силы", разрушения "силового мышления", то в Московии по мере концентрации
Силы в руках московского князя законодательство все более отражало его
Власть, авторитаризм, цесарскую централизацию русско-московской духовной
культуры.
В отличии от западноевропейской культуры, в которой Закон являлся важнейшим
средством обеспечения реализации абсолютных ценностей свободы, справедливости,
разумности, в русской культуре Закон закреплял отношения нарастающей всеобщей
несвободы, несправедливости, неразумности. Законодательство в Московии
выполняло две основные функции, выражающие преимущественно надличностные,
государственные интересы: карающую и фискальную. "Если по Русской правде,
¾ пишут А.Д. Горский и О.И.Чистяков, ¾ считались преступными
только такие деяния, которые наносили непосредственный ущерб конкретному
человеку ¾ его личности или имуществу, то теперь под преступлением стали
пониматься также всякие действия, которые так или иначе угрожали государству
или господствующему классу в целом и поэтому запрещались законом.
Соответственно изменился и термин для обозначения преступления. Вместо
обиды оно теперь именуется лихим делом. В борьбе с сопротивлением
эксплуатируемых масс главной для господствующего класса стала цель устрашения.
Закон стремится к тому, чтобы наказание устрашало как самого преступника, так и
главным образом других людей. Новые цели вызвали и новую систему наказаний.
Если раньше господствовали имущественные наказания, то теперь они отошли на
задний план. Вводятся новые наказания ¾ смертная и "торговая" казнь,
причем эти меры применялись за большинство преступлений." [134; 2; 27].
Доминирующая роль Силы в русском обществе имела следствием слабое развитие
правовых отношений. В Московском государстве суд не был отделен от
администрации, которая выполняла и судебные функции. По справедливому замечанию
М.Ф.Владимирского-Буданова, “Судебник 1497 г.” Ивана III значительно беднее по
сравнению с “Псковской Судной грамотой”, как по содержанию, так и по искусству
редакции [134; 2; 36].
Варварская жестокость, внесудебная расправа были обычным делом в Московии,
жертвами которой было не только местное население, но и иностранцы. По
приглашению Ивана III из Венеции приехал врач Леон, родом немец, который
обещал вылечить великокняжеского сына Ивана, обрекая себя в противном случае
на смертную казнь. Больной умер, и царь приказал отрубить ему голову. Другой
врач, немец Антон, которого великий князь держал в большой чести, лечил
татарского князя Каракучу и уморил его, по словам летописца, смертным зельем
насмех. Иван III выдал врача сыну Каракучеву, который, получив его, хотел
отпустить за деньги; но великий князь велел его убить: тогда татары свели
Антона на Москву-реку под мост зимою и зарезали ножом, как овцу. Пушечных дел
мастер Аристотель, видя печальную участь иностранных мастеров Московии,
испугался и начал проситься домой; но Иван III велел его за это схватить и,
ограбив (! ¾ В.М.), посадить на Антоновом дворе [150; 3; 176].
Деиндивидуализация и консервация безличностного пространства русской культуры
С.М. Соловьев справедливо отмечает одноликость, неразвитость индивидуального,
личностного начала среди московских князей: "Правление Василия обыкновенно
называют продолжением правления Иоаннова ¾ отзыв справедливый в том
смысле, в каком правление Иоанна можно назвать продолжением правления князей
предшествовавших. Издавна одно предание, одни стремления и цели передавались
друг другу всеми князьями московскими и даже вообще всеми князьями Северной
Руси; мало того, что эти князья имели одинакие цели, они употребляли
обыкновенно одинакие средства для их достижения. Отсюда все эти князья
поразительно похожи друг на друга, сливаются в один образ, являются для
историка как один человек." [150; 3; 284-285]. Как уже отмечалось, структура
тематического пространства русской культуры препятствовала развитию
индивидуалистических ценностно-мыслительных ориентаций. Примечательно, в
русской культуре XIV – ХVII вв., как и в культуре Киевской Руси, отсутствует
задача индивидуального самоусовершенствования. В то время как в
западноевропейской культуре она являлась одной из центральных, начиная с XI
в., эпохи рыцарства. В русской культуре, как и в культуре Киевской Руси, не
осознавалась специфичность субъективной реальности, субъективность
личностного пространства, выражение которого осуществлялось посредством
различных форм её объективации. В этом отношении своеобразие русской культуры
заключалось в её безличностном характере. Безусловно, неразвитость личности
является признаком варварства. Однако, на наш взгляд, не следует слишком
упражняться в негативной оценке этого обстоятельства. Его нужно непременно
учитывать в деле реконструкции духовного пространства русской культуры этого
периода.
Русские религиозные подвижники достигли величайших вершин христианского духа.
Это движение в русской культуре ХIV ¾ ХVII вв. было достаточно
массовым и непрерывным, пользовалось большим авторитетом и всеобщим
уважением. Продолжая традиции киево-печерских монахов русские религиозные
деятели, начиная, может быть, с Сергия Радонежского проявили незамутненную
чистоту веры, мужество служения Господу, безупречное поведение на протяжении
всей жизни, превратив её в непрерывный подвиг. Однако механизм элиминации
субъективных представлений и переживаний в русской культуре выносил их за
скобки в религиозной и другой деятельности, а, следовательно, и русской
литературе ХIV ¾ ХVII вв. О победах и взятых высотах русского
религиозного духа мы можем судить косвенно, по описаниям деятельности
религиозных подвижников. Подтверждением вышесказанному может служить русская
иконопись этого периода. Может быть главным достижением русских иконописцев
(А. Рублева и др.) было умение передать многообразие, полноту и высоту
надличностного, объективного религиозного духа, в то время как западно-
европейские живописцы не могли освободиться от субъективных представлений и
переживаний. Между тем, подобного рода подвижничество не рассматривалось как
путь индивидуального самоусовершенствования, индивидуального восхождения к
просветлению. Считалось, что для индивидуального спасения необходимо строго
следовать предписаниям умерщвления плоти, молитвам, бдениям и т.д.
Русская культура этого периода представляла собой безличностное пространство,
тематическая сеть которого индивидуальные ценностно-мыслительные устремления
не улавливала. Поэтому можно утверждать, что свободное единственное существо
в Московии, ¾ царь не осознавал себя личностью. В московских великих
князьях XIV ¾ XVII вв. не просматривается стремление к развитию в себе
нравственных добродетелей, умственных способностей к образованию.
Представления о чести ограничивались родословной и социальным статусом
человека, т.е. надличностными обстоятельствами. Личные же, благоприобретенные
достоинства не принимались в расчет. Если князьям Киевской Руси непременно
было присуще личное мужество, физическая сила, военная доблесть, которые они
закаляли в постоянных битвах, защищая свои земли и города, то московские
великие князья, за исключением Дмитрия Ивановича Донского, этих качеств были
лишены; сами непосредственного участия в битвах не принимали.
Начиная с Дмитрия Донского, когда Тохтамыш в 1382 г. подошел к Москве, у
московских правителей сложилась устойчивая традиция бежать из Москвы в случае
внешней опасности. В 1408 г., спасаясь от неожиданного нападения хана Едигея,
сын Дмитрия Ивановича Василий Дмитриевич оставляет Москву и её жителей на
произвол судьбы. В 1480 г. во время похода на Русь хана Ахмата Иван III не
блистал мужеством, собирался бежать на север от Москвы. В большой степени
усилиями архиепископа Вассиана Рыло удалось его удержать от отъезда. "Подумай
же, великоумный государь, ¾ писал он Ивану III,¾ от какой славы
к какому бесчестью сводят они твое величество! Когда такие тьмы народа
погибли и церкви божии разорены и осквернены, кто настолько каменносердечен,
что не восплачется о их погибели! Устрашись же и ты, о пастырь ¾ не с
тебя ли взыщет бог кровь их, согласно словам пророка? И куда ты надеешься
убежать и где воцариться, погубив врученное тебе богом стадо?" [108; 527]. В
1521 г. сын Ивана III Василий III Иванович бежал из Москвы от крымского хана
Магмет-Гирея. В 1571 г. к Москве подошел Девлет-Гирей, и сын Василия III Иван
IV Грозный оставил Москву на разграбление крымского хана. По возвращении
Ивана IV в разрушенную Москву ему подали грамоту от хана, в которой в
частности говорилось: "Я пришел на тебя, город твой сжег, хотел венца твоего
и головы; но ты не пришел и против нас не стал, а еще хвалишься, что-де я
московский государь! Были бы в тебе стыд и дородство, так ты б пришел против
нас и стоял." [150; 3; 588]. Примечательно, что никакого протеста и
возмущения по этому случаю в русском обществе не наблюдается. И это вполне
понятно. Московские великие князья рассматривали Русскую землю, её
материальные ресурсы и людей, как свою отчину, как свою собственность, с
которой вольны были поступать по своему усмотрению, не отчитываясь ни перед
кем. Потери городов и людей ¾ это их собственные потери. Для русских
людей царь представлял собой безусловную и абсолютную ценность, которая не
строилась на его личных достоинствах и добродетелях. Они осознавали себя в
качестве средства царского существования, поэтому подобного рода действия
царя рассматривались как вполне оправданные.
Московские цари отличались большой религиозностью. Об этом свидетельствуют
описания их распорядка дня и в целом образа жизни, в котором христианские
обряды занимали большую часть. Однако их вера была лишена рефлексивности,
была растворена в ритуале.
Дуализм русской культуры
Таким образом, мир русского царя, как и каждого русского человека, культуры в
целом, оказался расколотым на две существенно различные части, которые,
подобно сиамским близнецам, вместе с тем были неразрывно, диалектически
связаны, соединены между собой. В этом смысле герб Российского государства,
двухглавый орел, имеет глубокий и культурологический смысл: все ментальные
образования всех уровней (от ценностно-мыслительной системы культуры,
различных социальных слоев и групп до души отдельного человека) были
двуполюсными. Один полюс составляла языческая Сила и, связанные с ней,
натурализм, насилие, жажда добычи и т.д., другой ¾ христианская Вера,
которая творит совершенно иное ценностно-мыслительное пространство на
христианских добродетелях духовной благодати, милосердия, покаяния, поста,
молитвы и т.д. Проблема заключается в том, как возможно теоретически описать
феномен существования неразрывного единства несовместимых ментальных
субпространств, осмысление которого подвело бы нас к истокам загадки русской
души.
Проблема погружения в какую-либо культуру или эпоху на языке тематического
анализа формулируется как проблема тематической реконструкции ценностно-
мыслительного пространства культуры или эпохи. Выделение фундаментальной
тематической структуры из числа абсолютных ценностей, доминирующих тем
культуры или более полных тематических структур означает построение
идеализированного теоретического объекта ценностно-мыслительного пространства
культуры. Решение этой задачи позволяет уяснить систему целей, ценностей,
следование которым открывает возможность успешно ориентироваться в ментальном
поле реконструируемой культуры, продвигаясь тропинками выявленных ценностных
приоритетов. Дополнение образной интерпретацией на основе выделенной
теоретической тематической модели пространства культуры дает возможность
образно, эмоционально пережить, погрузиться в эпоху, культуру.
Применительно к теоретической реконструкции рассматриваемого тематического
пространства русской культуры XIV ¾ XVI вв. принципиальным должно быть
утверждение его фундаментального дуализма и разрыва. Как уже отмечалось в
первой главе, одним из исходных положений в тематическом культурологическом
анализе является утверждение о неоднородности ментального пространства как по
"вертикали" (при переходе от одного социального слоя к другому тематическое
пространство изменяется, иногда существенно), так и по "горизонтали" (в
рамках некоторого социального слоя). Исходя из обыденного опыта, можно
оправдать даже идею абсолютного плюрализма ментального пространства культуры,
согласно которой, покидая квартиру или дом (личное пространство) за целый
день человек множество раз переходит из одного ментального пространства в
другое. Однако теоретический анализ нам покажет, что эти ментальные
пространства окажутся весьма однородными по своей тематической структуре. Что
касается фундаментального дуализма русской культуры ХIV ¾ ХVI вв., то
следует допустить в качестве универсальной нормы русской жизни
рассматриваемого периода непосредственный переход из одного ментального
пространства в другое. Нам может представиться очень странным, как возможно
после религиозных высших переживаний, совершения религиозного обряда,
сотворения молитвы сразу перейти в мир насилия, бесправия и действовать в
соответствии с его логикой. В этом смысле наиболее показательным примером
может служить образ Ивана Грозного. Жить в двух несовместимых мирах и не
видеть противоречия ¾ вот загадка русской культуры ХIV ¾ ХVI
вв.
“Цесаризация” пространства русской культуры
Понятием "цесаризация пространства" обозначается процесс абсолютизации и
универсализации как ценности темы "царя", превращение её в фундаментальное
ядро, выделенный центр тематического пространства русской культуры, который
осуществлял жесткую, иерархически упорядоченную её структурализацию.
Основными смысловыми составляющими доминирующей темы "царя" был сакральный
характер ее бытия и Сила, которые привели к чудовищному, всеподавляющему,
гипертрофированному развитию власти Силы и силы Власти царя. В
западноевропейской культуре тема "царя" ("короля") также представляла
абсолютную ценность, важнейшим обоснованием которой выступала божественность
происхождения её власти. Однако западноевропейские монархи, никогда не
располагая такой силой, никогда столь откровенно её не демонстрировали.
Как будет показано ниже, фундаментальное ядро абсолютных ценностей
западноевропейской культуры было значительно богаче. Помимо темы "царя", оно
включало темы "свободы", "справедливости", "закона", "разума", "чести",
"благородства" (как комплекса добродетелей), "любви". Все эти темы-ценности
выступали также в качестве атрибутов темы "короля". Поэтому английский,
испанский, французский и другие западноевропейские короли официально
являлись, с одной стороны, как бы гарантами их абсолютного статуса, а с
другой ¾ источниками трансляции этих ценностей в ментальном
пространстве культуры как образцов. Система абсолютных христианских ценностей
католической церкви не противостояла им и выступала в функции их сакрального
обоснования.
После безоговорочной победы Духа над Силой в эпоху рыцарства последняя
лишилась своей былой привлекательности как чистой физической силы, как
абсолютной ценности. Разработанные и постоянно совершенствованные
представления о куртуазности, вежестве окутали её такими прочными путами, что
она имела право проявиться только в культурных, социально разрешенных формах.
Чтобы избежать обвинений в идеализации западноевропейской культуры,
необходимо сделать следующее уточнение. Предметом настоящего исследования
является фундаментальная структура абсолютных тем ¾ ценностей,
определяющих "законы" построения объективного ментального пространства
культуры, структурированное поле ценностно-мыслительных ориентаций. По мнению
автора, она фиксируется в письменных источниках культуры. Очевидно, что
процесс реальной жизнедеятельности представляет собой существенно отличную
ментальную реальность, более сложную и противоречивую, основу которой
составляет тематическое пространство. Безусловно, в западноевропейской
культуре рассматриваемого периода было достаточно проявлений физической силы,
жестокости, коварства и т.д. Важным представляется то, что подобные явления с
точки зрения общепризнанных ценностей получают безусловное и всеобщее
осуждение как нечто недостойное, как варварство.
Совсем иную ситуацию мы наблюдаем в русской культуре. Темы "справедливости",
"свободы", "закона", "разума" и т.д. не только не выступают в качестве
абсолютных ценностей, но мы даже не встречаем в древнерусской литературе
апелляции к ним. Иногда имеют место осуждения деятелями русской православной
церкви местных властей и порядков за нарушение закона. Однако чаще всего
имеется в виду христианский закон. После татаро-монгольского ига возвышение
Москвы и образование централизованного государства привели к дальнейшей
дегуманизации ментального пространства культуры. В отличие от
западноевропейских монархов, русский царь даже внешне, официально не пытался
представляться носителем справедливости, свободы, разума и т.д. Сила, Насилие
и Страх ¾ вот основные козыри русского самодержавия, цветы им
взращенные и культивируемые. Эта триада приняла настолько всеобщий характер,
что она превратилась в обыденное явление, в норму. Её перестали замечать.
Примечательно, её почти не замечают даже российские историки других эпох, XIX
¾ XX вв., потому что Сила-Насилие-Страх вошли в каждую клетку русского
организма, от крестьянина до высшего сановника. Таким образом, как увидим
ниже, развитие тематических пространств русской и западноевропейской культур
развивалось в существенно различных направлениях. Поэтому употребление
терминологии, используемой для анализа западноевропейской культуры (например,
"феодализм","рыцарь","Возрождение" и т.д.), применительно к культуре русской
возможно с большими оговорками. В контексте русской действительности они
выступают как метафоры, а, следовательно, мало эффективны. Автор, активно их
употребляющий, вольно или невольно европеизирует российский культурно-
исторический процесс.
Как безусловная абсолютная ценность, тема "царя" стала главным организующим
началом ментального пространства русской культуры. П.М.
Бицилли справедливо отмечает иерархический принцип построения средневекового
общества: "Иерархизмом проникнут весь социальный уклад средневековья, и в
иерархическом начале справедливо видит один из знатоков эпохи главный факт
средневековой культуры" [15; 15]. Западноевропейское средневековое общество,
а, следовательно, и культура как система объективного духа, складывалась из
относительно автономных социальных групп, автономных тематических систем
(римско-католической, рыцарски-дворянской и торгово-промышленной свободных
городов), фундаментальные структуры абсолютных ценностей которых частично
совпадали и различались, что обеспечивало как единство, так и порождало
противоречия духовного пространства культуры. Становление самодержавия в
Московском государстве привело к формированию единой деспотической
иерархической системы, на вершине которой находился царь. Этот процесс
сопровождался установлением отношений тотальной зависимости, которая, начиная
со второй половины ХV в., все время усиливалась, в то время, как отношения
феодальной зависимости в Западной Европе ослабевали. Запрещение переходов
бояр, постепенная ликвидация удельного и вотчинного владения землей и
становление нового служилого землевладения, при котором поместная
собственность передавалась в пожизненное владение с правом передачи по
наследству в виде вознаграждения за службу соответственно занимаемому месту,
прикрепление горожан и закрепощение крестьян и т.д. ¾ все это
создавало бытие всеобщей несвободы. Все являлись слугами (холопами) царя, а
также каждый того (или тех), кто стоял выше на социальной лестнице.
Каждый, от боярина до крестьянина, не представлял собой цель саму по себе, а
рассматривался лишь как средство. Бытие тотальной несвободы порождает
активный процесс формирования господствующих надличностных ценностей, которые
закрепляют отношения всеобщей зависимости, восприятие жизни как средства, а
не цели самой по себе, превращения их в норму ментального бытия.
Со второй половины ХV в. набирает силу надличностные темы-ценности, которые
можно было бы назвать надличностными темами первого порядка,
"царя","государства", "Русской земли". Очевидно, слово "государство"
происходит от слова "государь" ("царь"), то, чем владеет государь.
И.И.Срезневский в своем "Словаре древнерусского языка" так определяет
государство: "Государство ¾ титул государя. Наяснейшій великіи княже,
тые речи, которые есми росповедилъ наяснейшому государьству вашему. 1502 г."
[154; 571]. С точки зрения царя слова "государство" и "Русская земля"
выступали как тождественные, равные по объему понятия, как то (люди и все
ресурсы на известной территории), что дано ему богом во владение. Для всего
же населения Московского государства темы "государства", "Русской земли"
также являлись синонимами, как владение государя, к которому они относили и
самих себя. Однако для них эти темы приобретали характер абсолютных
ценностей, по сравнению с которыми их собственная жизнь превращалась нечто,
чем можно пренебречь (жизнь холопа). Впоследствии слово "Русская земля" будет
сближаться со словом "Россия" и получит другое смысловое наполнение, в
большой степени мистическое.
Местничество
Порушенное в эпоху Киевской Руси "родовое" мышление возрождается вновь в ХVI в.
в Русском государстве, которое приобрело наиболее яркое отражение в
местничестве. Местничеством называют порядок служебных отношений, который
сложился между родословными фамилиями в Московском государстве в ХV ¾
ХVI вв. Обстоятельный анализ этого социального явления сделал В.О. Ключевский.
"В Москве ХVI в. при замещении высших должностей служилыми людьми соображались
не с личными качествами назначаемых, а с относительным служебным значением
фамилий, к которым они принадлежали, и с генеалогическим положением каждого из
них в своей фамилии. ...Каждая родословная фамилия и каждое отдельное лицо
такой фамилии занимали определенное и постоянное положение среди других фамилий
и отдельных лиц, с которыми должны были сообразоваться их должностные
назначения и которое, следовательно, не зависело от этих назначений.
Иерархическое отношение между сослуживцами не устанавливалось при их назначении
на должности по усмотрению назначавшей их власти, а заранее указывалось помимо
нее фамильным положением назначаемых. Это фамильное значение лица по отношению
к другим лицам как своей собственной, так и чужих фамилий называлось его
отечеством. Это значение приобреталось предками и становилось наследственным
достоянием всех членов фамилии" [62; 2; 137]. "Первоначальное понятие о месте в
смысле служебном, очевидно, сложилось среди бояр за княжеским столом, где они
рассаживались в порядке служебно-генеалогического старшинства, но потом это
понятие было перенесено и на все служебные отношения, на правительственные
должности. Отсюда употребляемое нами выражение искать места.
Генеалогическое расстояние между лицами одной и той же или разных фамилий,
назначенными на известные должности по одному ведомству, должно было
соответствовать иерархическому расстоянию между этими должностями. Для этого
каждая сфера служебных отношений, каждое правительственное ведомство, места в
государственной думе, должности административные, городовые наместничества, как
и должности полковых воевод, были также расположены в известном порядке
старшинства, составляли иерархическую лествицу." [662; 2; 139]. Политическое
значение местничества "ставило служебные отношения бояр в зависимость от службы
их предков, т.е. делало политическое значение лица или фамилии не зависимым ни
от личного усмотрения государя, ни от личных заслуг или удач служилых людей.
Как стояли предки, так вечно должны стоять и потомки, и ни государева милость,
ни государственные заслуги, ни даже личные таланты не должны изменять этой
роковой наследственной расстановки. Служебное соперничество становилось
невозможным: должностное положение каждого было предопределено, не
завоевывалось, не заслуживалось, а наследовалось. Служебная карьера лица не
была его личным делом, его частным интересом. За его служебным движением следил
весь род, потому что каждый его служебный выигрыш, каждая местническая
находка повышала всех его родичей, как всякая служебная потерька
понижала их. Каждый род выступал в служебных столкновениях как единое целое;
родовая связь устанавливала между родичами и служебную солидарность, взаимную
ответственность, круговую поруку родовой чести, под гнетом которой личные
отношения подчинялись фамильным, нравственные побуждения приносились в жертву
интересам рода" [62; 2; 144]. Местнические отношения приобретали характер
абсолютной ценности. В книге, составленной М.Г.Волховским, справедливо
отмечается: "...В старину русский знатный человек, беспрекословно
повиновавшийся государю, считавший себя холопом его, высказывал полное
неповиновение, когда дело шло о том, чтобы унизить свой род, занять место ниже
человека менее родовитого, готов был скорее пойти в тюрьму, подвергнуться
батогам, кнуту, лишиться имений, чем причинить бесчестие всему своему роду.
Уронить достоинство своего рода значило навеки опозорить себя не только в
глазах всех своих родичей, но и в глазах всех порядочных людей" [49; 35]. В
1514 г. была проиграна битва под Оршей из-за местнического спора двух воевод на
виду у неприятеля. Отношения местничества порождают любопытную коллизию, когда
возникает необходимость выбора между двумя абсолютными темами-ценностями "царя"
и "рода". Например: "Царские родичи по жене часто у царя за обедом не бывают,
потому что им ниже других бояр сидеть стыдно, а выше не могут, "потому что
породою не высоки". Забавные (Забавные ли? – В.М.) случаи происходили иногда за
царским столом. Станут рассаживаться приглашенные по местам, и случится
кому-нибудь сидеть ниже лица, с которым он породой равен или даже честнее. Тут
уж и царская милость ¾ не в милость! И опасающийся учинить поруху своему
роду под разными предлогами старается уклониться от стола, просит царя
отпустить его домой или в гости, и царь отпускает, а если как-нибудь проведает,
что кто-либо просится обманом, не желая сидеть ниже другого, такому велит
остаться за столом, под кем придется, но тот не садится, бьет челом царю, чтоб
он не бесчестил его, что "род его с тем родом, под которым велят сидеть, не
бывал". Царь приказывает насильно посадить ослушника, а он посадить себя не
дает, и того, ниже которого приходится сидеть, "бесчестит и лает". Когда же его
посадят силою, он не сидит, выбивается из-за стола вон, его не пускают и
уговаривают не гневить царя, а он кричит: "Хотя царь велит мне голову отсечь,
мне под ним не сидеть!" И спустится под стол. Тогда царь прикажет вывести его
вон, послать в тюрьму или до указа "к себе на очи их пускать не велит", а после
того за то ослушание отнимается у ослушника честь, боярство или окольничество и
думное дворянство" [49; 38].
Примечательно, что формально выбор однозначно делается в пользу рода. Это
обстоятельство внешне усиливается сознательностью мужественного выбора,
несмотря на угрозу впасть в царскую немилость. Однако фактически для царя и
всех бояр совершенно очевидно, что противоречия между ценностями "царя" и
"рода" в каждом конкретном конфликтном случае нет. Абсолютность темы "царя"
составляла совсем другое, высшее, сакральное поле, которое для бояр, искренне
сознававшим себя холопами царя, всегда оставалось неприкосновенным.
Местнические споры между боярами – это плебейские споры о значимости людей
как элементов системы, которые мыслили себя только в качестве средства царя
(в общей иерархической лествице) и рода (в системе родовых отношений). Для
нас важно подчеркнуть, что системы государства и местничества и другие
обстоятельства опутывали боярскую аристократию такой плотной сетью наперед
заданных и внешне предопределенных отношений, что закрывалась всякая
возможность для индивидуального развития, формирования личности. Жизнь
проходила как бы во внешнем поле восприятия, не интроспективно. Поэтому можно
допустить, что никто из боярской аристократии не осознавал себя личностью,
существом самодостаточным, целью самой по себе.
Стабилизация атмосферы деспотизма и насилия
Если в западноевропейской культуре в эпоху позднего средневековья и
Возрождения набирали силу индивидуализм и гуманизм, то в русской культуре в
это же время приобретали все более самодовлеющее значение надличностные
факторы и жестокость, лишающие человека не только свободы, но и возможности
индивидуального самосовершенствования. Подобного рода процессы в русской
культуре XVI в. носили всеобщий характер. Иосиф Волоцкий проводит реформу
монашеского общежития, суть которой заключается в упразднении остатков
индивидуальной свободы (индивидуального келейничества, трапезы и др.) и в
установлении общежительных отношений и жесткого контроля и надзора. В ХVI в.
получает развитие крестьянская община, которая возникает не как продолжение
родовых, патриархально-коммунистических, коллективных традиций, а как чуждое
свободному крестьянину, навязанное государством средство установления
круговой поруки, коллективного удушения индивидуальной свободы земледельца,
выбивания из него налогов.
Формирование народного фольклора происходит стихийно, отражая фундаментальные
сдвиги народного духа. В становлении русского народного фольклора, в
частности русских народных обрядов, четко просматривается тенденция
доминирующей роли надличностных факторов в подавлении индивидуальной свободы.
В русском свадебном обряде жених и невеста скованы внешними обстоятельствами,
полностью лишены свободного выбора, активности. Брак совершался не только не
по любви, но жених и невеста нередко не имеют возможности даже увидеть друг
друга до свадьбы. Их судьба целиком зависит от воли родителей.
В генезисе русской патриархальной семьи преобладают авторитарные,
деспотические факторы. В "Домострое" Сильвестра, который в XVI в. представлял
собой идеальную картину, модель отношений и быта русской семьи, одной из
главных задач детского воспитания ставится подавить индивидуальное
волеизъявление и приучить к безропотному повиновению сложившимся, подавляющим
личность традициям: "Любя же сына своего увеличивай ему раны, и потом не
нахвалишься им. Воспитай дитя в запретах и найдешь в нём покой и
благословение; не улыбайся ему, играя; в малом послабишь – в большом
пострадаешь скорбя и в будущем будто занозы вгонишь в душу свою. И не дай
ему воли в юности, но сокруши ему ребра, пока он растет, и тогда, возмужав не
провинится пред тобой и не станет тебе досадой и болезнью души." [110; 87,
89].
Таким образом, складывается общая деспотическая система насилия. Если в
Западной Европе в ХV ¾ XVII вв. происходит дальнейшее развитие
гуманизма, то в Московском государстве в это же время наблюдается обратный
процесс дегуманизации общества и ментального пространства. С самого начала
своего образования русское самодержавное государство как система управления
заявило себя по отношению к населению как внешняя, высшая, самодовлеющая
реальность, которая преследовала свои цели и интересы, откровенно
рассматривая народ Московии в качестве средства их решения.
Убедительным подтверждением тому является система кормления чинов. "Расходы по
содержанию администрации, ¾ пишет К.Валишевский, ¾ ложились на
управляемых. Управлять в то время значило выполнять судебные и полицейские
обязанности и этим питаться. Такая система была введена везде... Управлять
городом или областью значило жить на их счет, взимая судебные издержки. Это
называлось кормлением" [23; 53]. Не защита прав и свобод местного населения,
которых и гражданами назвать нельзя, не представления о справедливости и
добродетели определяли мотивацию наместников, волостелей и др., а сила, насилие
и частный интерес наживы руководили их действиями. Поскольку в руках
наместников сосредотачивалась вся власть, в том числе и судебная как одна из
наиболее доходных, то для местного населения гнет государственной машины
представлялся несокрушимым в своей мощи. "Наместники и волостели продолжали
смотреть на отправление своих должностей, на отправление правосудия, ¾
отмечает С.М.Соловьев, ¾ исключительно как средство кормиться, быть
сытым и не считали неприличным высказывать такой взгляд прямо в просьбах
своих великому князю. Так, боярин Яков Захарьевич, назначенный в Кострому
наместником вместе с литовским выходцем, паном Иваном Судимонтом, бил челом
великому князю, что им обоим на Костроме сытым быть не с чего." [150; 3; 204].
Кормление было обычной, официально и всеми признанной практикой, как вполне
справедливой, получения пожалований. Слово "кормление" точно выражает
паразитический и деспотический характер московской власти, который превратился
в норму общественного бытия.
Не меньше приходилось претерпевать насилий во владениях удельных князей. О
притеснениях своего монастыря от удельного князя Федора Борисовича повествует
Иосиф Волоцкий: "Князь Федор Борисович во все вступается: что бог пошлет нам,
в том воли не дает; иное даром просит, другое в полцены берет; если его не
послушаем, то хочет кнутом бить чернецов, а на меня бранится. И мы боялись
его, давали ему все, что благочестивые люди дарили монастырю, ¾ коней,
доспехи, платье; но он захотел еще денег и начал присылать за ними ¾
мы ему послали шестьдесят рублей; прислал просить еще – послали еще сорок
рублей, и эти деньги уже десять лет за ним; мы вздумали было просить их
назад, а он нашего посланца, монаха Герасима Черного, хотел кнутом высечь да
денег не отдал. Все, что ни пришлют на милостыню или на помин по усопших, все
хочет, чтоб у него было; прислал князь Семен Бельский полтораста коп грошей
на помин родителей, и князь Федор сейчас же прислал к нам просить этих
грошей; купили мы на полтораста рублей жемчугу на ризы и на епитрахиль
¾ и князь Федор прислал жемчугу просить. К чернецам нашим подсылал
говорить: "Которые из них хотят идти от Иосифа в мою отчину, тех берусь
покоитъ; а которые не хотят и заодно с Иосифом, от тех оборонюсь; голову
Павла если не изобью кнутом, то не буду я сын князя Бориса Васильевича". И
вот некоторые чернецы побежали из монастыря. Увидавши, что князь Федор
решился разорить монастырь, я хотел было уже бежать из него и объявил об этом
братии; но братия стала мне говорить: "Бог взыщет на твоей душе, если церковь
Пречистыя и монастырь будут пусты, потому что монастырь Пречистая устроила, а
не князь Федор; мы отдали все имение свое Пречистой да тебе в надежде, что
будешь нас покоить до смерти, а по смерти поминать; сколько было у нас силы,
и мы её истощили в монастырских работах; а теперь, как нет больше ни имения,
ни сил, ты нас хочешь покинуть!..." Я побоялся осуждения от бога и не посмел
покинуть монастырь, предать его на расхищение. Мы били челом самым сильным у
князя людям, чтоб просили его жаловать нас, а не грабить; но они отвечали:
волен государь в своих монастырях: хочет жалует, хочет грабит. Тогда я бил
челом государю православному самодержцу великому князю всея Руси, чтоб
пожаловал монастырь Пречистыя, избавил от насильств князя Федора; а не
пожалует государь, то всем пойти розно, и монастырю запустеть, Государь князь
великий не просто дело сделал, думал с князьями и боярами и, поговоря с
преосвященным Симоном-митрополитом и со всем освященным собором, по
благословению и по совету всех их монастырь и меня грешного с братиею взял в
великое свое государство и не велел князю Федору ни во что вступаться. После
этого жили мы в покое и в тишине два года" [150; 3; 318-
319].
Насилие приняло всеобщий характер в Московском государстве. Подобно воздуху,
атмосфера обыденного насилия не замечалась. Оно в качестве необходимой
составляющей русского быта входило в понятие "тишины". Понятие "тишины" в
русской жизни весьма относительно. Оно означает период существования без
всплесков насилия, но, безусловно, не предполагает жизнь, при которой права и
свободы граждан были защищены законом и оберегались государством. Как
известно, такого периода не существовало за всю историю России вплоть до
конца XX в.
Нарастающий процесс дегуманизации ментального пространства русской культуры
ХV ¾ ХVI вв. нашел отражение в росте телесных наказаний. "С ХV века,
¾ пишет Н.Евреинов, ¾ начинается у нас быстрый расцвет телесных
наказаний. Всевозможныя истязания и уродованья приобрели с этой поры в
русском праве преобладающее значение." [50; 22]. Бесправными были все: от
боярина до холопа. Примеров тому множество. Некоторые из них: боярин Берсень
Беклемишев пожаловался на перемены, произведенные царевной Софьей, за что ему
отрубили голову; дьяк Федор Жареный, который осмелился также жаловаться, был
бит кнутом и лишился языка. [150; 3; 293]. С.Герберштейн рассказывает, как
Василий III решил послать дьяка Третьяка Далматова послом в Германию,
пользовавшегося особенной милостью царя. Далматов пожаловался, что у него нет
денег на дорогу и другие расходы. За это он был схвачен, заточен в Белоозеро,
а имение его было отдано в казну [34; 73].
Возвышенная чистота и неукротимая мощь царя (темы "царя") неукоснительно
поддерживалась. "В ХVI веке, ¾ пишет Н.Евреинов, ¾ развелся у
нас вид государственных преступлений под названием "слова и дела Государева".
Каждый услышавший невежливое слово про Царя или его ближних, обязан был под
страхом смерти доносить. Он кричал "слово и дело"; его немедленно вели в
застенок к допросу; хватали и пытали, на кого он указывал. Когда раздавались
эти страшные слова на улицах, площадях или других общественных местах, все
немедленно разбегались. Кто слышал, однако, "слово и дело" и не доносил об
этом, получал батоги и кнут." [50; 23]. Царский деспотизм доходил до абсурда.
"Драгун Евтюшка как-то сказал: "Был бы здоров Государь Царь Великий, Князь
Алексей Михайлович да я, Евтюшка, другой". Сказал он это по простоте души,
без злого умысла. Но на него донесли "слово и дело" и за то, что он смел
приравнивать себя к Царю, жестоко избили батогами. Одной женщине, Агафье,
приснился сон: явился ей мученик Христов Никита и сказал, чтобы приемный отец
Агафьи, Степан, перестроил избу, поставил избу с сенями, в тех бы сенях
сидела она, Агафья, а Степану быть в царстве. Мужик похвастался хорошим сном
соседу, тот донес, несчастного Степана нещадно побили батогами, отпустив с
наставлением: "Не верь в сон". Таких примеров множество." [50; 23-25]. "Если
человек, ¾ отмечает Н.Евреинов, ¾ с вырванными ноздрями или без
уха был самое обычное зрелище, то человек без рубцов на спине, не испытавший
каких-либо побоев был редкость" [50; 33].
При сравнении Судебника 1497 г. Ивана III, Судебника 1550 г. Ивана IV и
Соборного Уложения 1649 г. Алексея Михайловича просматривается тенденция
роста телесных наказаний. Н.Евреинов, прослеживая влияние Литовского статута
на Соборное Уложение, справедливо замечает: "...Тут, как и в византийских
законах, русские заимствовали только то, что не противоречило духу
Московского права. Ни греко-римским законам, ни Литовскому статуту нельзя
приписать то обилие телесных наказаний, которое назначалось по Уложению
Алексея Михайловича" [50; 25].
"Вся организация карательной системы в ХVII веке,¾ пишет
Сергеевский,¾направлена к служению практическим целям государственной
пользы, игнорированию личности и не заключала в себе никаких гуманных
тенденций и не представляла гарантий для личности преступника" [50; 26].
Статья 9 Главы 1 Соборного Уложения гласит : "А будет кто, забыв страх божии
и презрев царьское повеление, учнет ему государю, или патриарху, или иным
властем, в церкви божии во время церковнаго пения, о каких своих делех бити
челом, и того челобитчика за то вкинуть в тюрму, на сколько государь укажет"
[133; 3; 86]. Примечательно, выражение "вкинуть в тюрму" в Уложении
превращается в клише.
В Судебнике Ивана Грозного по сравнению с Судебником 1497 г. увеличивается
роль поединка как средства доказательства правоты. При этом ответчик может
выставить вместо себя наемного бойца. Подобный способ выяснения отношений
между истцом и ответчиком не имеет рационального обоснования. Он берет свои
истоки в мифологическом (языческом) мышлении, когда физическая сила имела
сакральный характер. Повышение статуса поединка в судебном разбирательстве
культурологически может быть истолковано как возрастание фундаментального
значения темы "силы" как абсолютной ценности в ценностно-тематическом
пространстве русской культуры второй половины ХV¾ХV1 вв.
Как известно, самодержавное насилие достигло своего апогея во время правления
Ивана IV Грозного, прежде всего, в период опричнины. Вероятно, именно в эту
эпоху в народном сознании насилие кристаллизовалось в качестве
фундаментальной мыслительной структуры, парализовавшей волю русского
человека, приучившей его быть терпеливым. В этом смысле в русском фольклоре
есть глубокий по содержанию рассказ о бессмысленной расправе Иваном IV в
Новгороде и о трагической форме протеста самых свободолюбивых среди русских
людей, но уже сломлённых духом, новгородцев: “Как распалился Грозный царь
¾ и велел народ рыть (бросать.¾В.М.) в Волхов; царь Иван стал
на башню, что на берегу налево, ... стали народ в Волхов рыть: возьмут двух,
сложат спина с спиной, руки свяжут да так в воду и бросят; как в воду
¾ так и на дно.
Нарыли народу на двенадцать верст; там народ остановился, нейдет дальше,
нельзя Грозному народу больше рыть! Послал он посмотреть за двенадцать верст
вершников ¾ отчего мертвый народ вниз не идет. Прибежали вершники
назад, говорят царю: "Мертвый народ стеной стал". "Как тому быть!¾
закричал царь,¾ давай коня!" Подали царю коня; царь сел на конь и
поскакал за двенадцать верст. Смотрит: мертвый народ стоит стеной, дальше не
идет. В то самое времечко стало царя огнем палить: стал огонь из земли кругом
Грозного выступать. Поскакал царь Иван Васильевич прочь, огонь за ним; он
скачет дальше, огонь все кругом!... Царь соскочил с коня да на коленочки
стал, Богу молиться: "Господи, прости мое согрешение". Огонь и пропал.
Приезжает царь в Новгород; там через сколько-то времени пришел к митрополиту
обедать в постный день. Митрополит поставил на стол редьчину, а царю кажется
¾ голова кобылья! "Чем ты меня потчуешь, митрополит?¾ говорит
царь,¾ теперь пост, а ты поставил мясо, да еще какое- кобылью голову,
что есть и в скоромный день грех большой!" Митрополит усмехнулся да и
говорит: "Есть кобылью голову грех, а народ губить ¾ святое дело!"
Благословил митрополит ту редьку, царю и показалась редьчина редьчиной.
С тех пор Волхов и не мерзнет на том месте, где Грозный царь народ рыл: со
дна Волхова тот народ пышет... А где народ становился за двенадцать верст,
там Хутынский монастырь царь поставил..." [93; 81].
Однако оценка этой фундаментальной ценностно-тематической структуры русской
культуры не может быть однозначно негативной. С одной стороны, неразвитость
представлений о ценности человеческой жизни, установки на духовное и
нравственное самоусовершенствование, правосознания и др., а с другой
¾ нарастающий процесс роста власти Силы, особенно после установления
татаро-монгольского ига, ¾ все это предопределило формирование
основополагающей ментальной структуры с трагической неотвратимостью для
русской культуры. В этой атмосфере господства "силового мышления" во
избежание хаоса феодальной раздробленности концентрация силы в одном месте, в
руках царя, представлялась наименьшим злом, дававшая надежду на установление
во внутренней жизни "тишины". Всеподавляющая мощь Силы и власти московского
царя, когда о Законе никто не думал, была единственным средством становления
порядка, хотя и деспотического, в стране. Опыт смутного времени начала ХVII
в., когда царская власть была разрушена и разлилась вакханалия насилия,
убедительно показал всем в Московском государстве необходимость сильной
власти русского царя, воспроизведя её в полном объеме. Таким образом,
совокупность внешних и внутренних обстоятельств предопределили траекторию
болезненного, ненормального, антигуманного культурно-исторического процесса
русской истории и культуры.
При этом следует заметить, что, безусловно, история русской культуры XIII
¾ ХVI в. в целом не была столь мрачной. Как уже отмечалось в первой
главе, важнейшей методологической установкой в культурологии должно быть
представление о существенном различии между объективной ценностно-
мыслительной реальностью культурно-исторического процесса (онтологический
уровень) и фиксацией его в концептуальных построениях (теоретический
уровень). Объективная, ментальная, культурно-историческая реальность по
содержанию всегда богаче, сложнее, многообразней. Теории всегда беднее,
проще, одностороннее. Ценностно-мыслительное пространство культуры никогда не
представляет собой жесткую, строго упорядоченную структуру, не является
однородным. В нем всегда имеют место автономные ментальные образования, в
которых воздействие фундаментальной тематической структуры значительно
ослаблено (например, козачество в русской культуре) или она претерпевает
существенные изменения (например, в этнических субкультурных целостностях).
Полнота и многообразие жизненных устремлений людей никогда жестко не
охватывается системой социо-культурной регламентации. Поэтому даже в русской
культуре второй половины XV¾ХVII вв., ментальное пространство которой
отличалось централизованной, иерархически упорядоченной, жесткой структурой,
имело место достаточно аномалий. К тому же в настоящем исследовании
предпринята попытка выделить лишь исходную, основополагающую тематическую
структуру русской культуры второй половины ХV ¾ XVII вв., само
тематическое пространство которой было значительно богаче и многообразней.
Задача состоит не в сведении многопланового и неоднородного ментального
пространства русской культуры к упрощенной схеме её фундаментальной
тематической структуры. Проблема состоит в её выделении и демонстрации её
роли в построении и функционировании тематического пространства русской
культуры.
5 Своеобразие ментального пространства русского православия XIV
¾XVII вв. Нередлексивность, иррационализм, обстертевизм русского
религиозного опыта
Фундаментальный характер тематической структуры Царь-Сила-Насилие-Страх
(ЦСНС) заключается в универсальной детерминации всех культурных (ментальных)
процессов. Это означает, что структура Ц-С-Н-С канализирует ценностно-
мыслительное пространство русской культуры таким образом, что создает "режим
благоприятствования" всем тем деяниям, которые идут в её русле. Всякая иная
деятельность с необходимостью должна преодолевать жесточайший пресс её
сопротивления. Поэтому всякое культурное достижение в русской культуре этого
периода есть или бегство от засилья Ц-С-Н-С (например, сторонники
нестяжательства, старообрядства), или её преодоление в творческой области
(например, достижения в искусстве, изобретательстве и др.). В обоих случаях
подобного рода деятельность иначе, как подвигом не назовешь. Исходя из этого,
всегда следует отдавать себе отчет в том, что всякое достижение русской
культуры второй половины ХV – ХVII вв. есть "мутация", есть культурное
явление вопреки господствующей ментальной структуры Ц-С-Н-С. Когда же историк
или культуролог ограничивается анализом лишь памятников литературы и
искусства этой эпохи, то невольно создается модернизированная, приукрашенная
картина русской культуры этого периода.
Обозначим некоторые подходы.
Сердцевину русского религиозного сознания составляла небольшая часть
монашества, которую только и можно назвать "святой Русью". К ней следует
отнести монахов-подвижников, ушедших из мира, принявших жесткий пост,
непрерывно занимавшихся умерщвлением плоти, молитвами, бдениями и т.д. Они
являли собой чистый, живой образец, безусловный авторитет для каждого
русского человека, от холопа до царя. С точки зрения внешнего
(западноевропейского) наблюдателя, они представляли собой убогое, печальное
зрелище. "Там есть и такие монахи, ¾ пишет П.Петрей,¾ которые
уходят из монастыря в пустыню, строят там хижину себе, живут в ней, ищут пищи
на земле или на деревьях, например, корней, трав и тому подобного. Они очень
бедны, терпят великий голод и нищету, влачат жалкую жизнь, заказывают себе
железа в несколько пудов весом и ходят в них до тех пор, пока они не свалятся
сами: все думают заслужить тем вечную жизнь. Тогда причисляют их к святым, а
по смерти их молятся им." [99; 441]. Действительно, они не отличались
широкими и глубокими познаниями религиозной литературы. Вероятно, многие из
них были вообще неграмотными. Они практически не оставили после себя никаких
текстов о своем религиозном опыте. На наш взгляд, корректная оценка их роли и
места в истории русского православия сводится к тому, что они продолжали и
развивали глубокую, высшую и лучшую духовную традицию древнерусской культуры
эпохи Киевской Руси, берущей свое начало в Киево-Печерском монастыре. Другого
источника духовности как в культуре Киевской Руси, так и в русской культуре в
Московии не было. Всякое культурное явление непосредственно или опосредовано,
так или иначе было связано, проистекало из этого движения.
Своеобразие русского религиозного опыта
Подобные традиции имели и имеют место в развитых религиях и культурах: в
христианстве, исламе, буддизме и др. В жизнеописаниях древнерусских и русских
монахов просматриваются аналогии с практикой дзэн-буддистских монахов и
монахов-даосов: умерщвление плоти, разрушение естественно сложившихся
структур мировосприятия, сознания, достижение просветления и т.д. Общим для
них является положение о невербальном характере религиозного опыта, о
невыразимости его в языке. Однако если даосы и дзэн-буддисты в силу развитого
рефлексивного характера индийской и китайской культур все-таки стремились
зафиксировать практику духовного очищения, медитации, восхождения к
просветвлению в своих трактатах, то деятельность древнерусских и русских
монахов в этом смысле безупречно чиста и последовательна. Она была абсолютно
безмолвна и нерефлексивна. Это обстоятельство, на наш взгляд, имеет двоякое
объяснение. Во-первых, как уже отмечалось, культура Киевской Руси, а затем и
русская культура до ХVIII в. относится к типу нерефлексивных,
экзистенциальных культур, ментальное бытие которых не имело традиции и
потребности в рефлексивной установке, в деятельности по самоосмыслению,
самоконструированию. Высшими формами рефлексии в этих культурах являются
летописи, жития и им подобные произведения, которые были преимущественно
способами фиксации событий, того, что произошло с небольшими комментариями
автора. Поэтому у иноков не было внешней и внутренней потребности осмыслить и
записать свой религиозный опыт. Трансляция же его происходила, вероятно,
непосредственно, неназидательно, в живом общении, в подражании, через
учеников. Во-вторых, важнейшей особенностью древнерусского и русского
ментальных пространств являлся их безличностный, лишенный осознания
субъективной реальности, характер. Если в буддистской, даосской традициях
одной из самых главных и сложных задач было и есть преодоление порога,
горизонта субъективности, разрушение и подавление Сознания ¾Я для
достижения непосредственного, недеформированного субъективностью,
объективного восприятия мира, то для древнерусских и русских иноков этой
проблемы не существовало. В этом смысле им было несколько проще и легче в
деле достижения заветной цели ¾ просветления. Субъективная реальность
ими не осознавалась.
Субъективные переживания и представления (сознательные и бессознательные)
выступали в форме внешних, ярких образов (ангелов, бесов и др.). Душа
воспринималась не как мое Я, нечто субъективное во мне, совокупность моих
чувств, мыслей, переживаний и т.д., а как нечто объективное во мне,
нетелесное (фактически же специфически телесное, потому что в аду она
подвергалась физическим воздействиям), которое нужно очистить от скверны
чувственных вожделений.
Для древнерусских и русских подвижников заветной целью было полное подавление
плоти (обретение свободы от плотских желаний), достижение абсолютной чистоты
души и, как следствие, Царства Небесного. При этом объективистский склад
мышления естественно не обращает внимания и не фиксирует сопровождающие
психические переживания и преобразования. Мы только по отдельным намекам
можем отметить, что на инока обрушивается сноп божественного света,
вызывающего неизъяснимый восторг, в душе устанавливается покой и
умиротворение, открываются задавленные плотью, ранее невиданные духовные
силы, дающие возможность пророчествовать, творить чудеса и т.д. В русском
православии весь этот комплекс душевных преобразований обозначается как
"нисхождение божественной благодати". В буддистской, даосской, йога и другой
литературе подобная религиозная практика получила достаточно полное,
систематическое освещение, в котором достижение просветления рассматривается
в качестве главной цели. В древнерусской и русской литературе она выносится
за скобки, отходит на второй план. Поэтому при поверхностном анализе
создается впечатление о примитивности опыта древнерусского и русского
монашества, которое за обрядом (средством) не видит высшей цели
(просветления).
Воздействие сообществ иноков-подвижников, монастырей, в которых подобные
традиции были наиболее сильны (Троице-Сергиевого, Кирилло-Белозерского и
др.), отдельных монахов, рыцарей высокого христианского Духа (С.
Радонежского, П. Боровского, Н.Сорского и др.) на русское общество XIII
¾ XVII вв. было велико, глубоко и непрерывно. Для всех русских людей
они служили чистым христианским образцом, источником высокой христианской
морали. Все они открыто демонстрировали неприятие культа добычи, силы,
насилия, осуждали беззаконие, падение нравов. В то же время они являли собой
пример безупречного христианского поведения, милосердия, любви к ближнему,
безусловного приоритета христианских ценностей. Важно подчеркнуть, когда
возникала ситуация, требовавшая мужественного выбора: или следовать заповедям
Иисуса Христа, или утратить социальный статус, или даже лишиться жизни,
решение принималось в пользу христианской морали, которая только и
представляла для них систему абсолютных целей-ценностей. Несколько примеров.
Во время правления Василия III митрополит Варлаам отказался быть соучастником
вероломного захвата князя Шемячича, за что сам был арестован и сослан в
Вологодский Спасо-Каменский монастырь. Примечательно по этому поводу
сообщение С.Герберштейна, который передает, как его собственную высокую
оценку деятельности митрополита, так и общественное мнение в Московии этого
события: "В то время, как я исполнял свои обязанности посла цесаря
Максимилиана в Московии, митрополитом был Варфоломей, муж святой жизни. Когда
государь нарушил клятву, данную им и митрополитом герцогу Шемячичу, а также
совершил и другое, ущемлявшее, по-видимому, власть митрополита, то этот
последний явился к государю и сказал ему: "Раз ты присвояешь всю власть себе,
я не могу отправлять своей должности". При этом он протянул ему свой посох,
наподобие креста, который нес с собой, и отказался от своей должности.
Государь немедленно принял и посох, и отказ от должности и, заковав
несчастного в цепи, тотчас отправил его на Белоозеро. Говорят, он находился
там некоторое время в оковах, но впоследствии был освобожден и провел остаток
своих дней в монастыре простым монахом" [34; 89]. "Понятно, что митрополит
Варлаам, ¾ пишет А.В.Карташев, ¾ стоявший по примеру своих
идейных единомышленников ¾ заволжских старцев за проведение на
практике чистых принципов христианской нравственности, не мог одобрять всех
действий княжеской политики, вследствие чего и принужден был через десять лет
своего правления покинуть кафедру. Княжеская власть в данном случае
распорядилась судьбой митрополита так круто, как она ни разу не поступала со
времени исключительного случая с Климентом Смолятичем. Еще незадолго перед
тем великий князь Иван III как ни недоволен был митрополитом Геронтием, но не
осмелился лишить его кафедры. Не так много времени, кажется, утекло с тех
пор, но много утекло воды в деле развития власти московских государей, и
Василий III имел возможность не только согнать митрополита Варлаама с
митрополии, но и послать его в заточение." [59; 416].
После смерти Василия III и его жены Елены Глинской, когда Иван IV был еще
малолетним, фактически у руля государственного правления стал боярин Василий
Шуйский, который провел на кафедру митрополии Троицкого игумена Иоасафа.
Иоасаф ходатайствовал перед царем об освобождении из тюрьмы посаженного
В.Шуйским боярина И.Бельского. Последний был освобожден. "Партия Шуйских
немедленно организовала заговор, и в ночь на третье января 1542 г. подняла в
Кремле тревогу, во время которой схвачен был Бельский и отправлен в ссылку.
Митрополит, выгнанный из своих покоев градом камней, бежал в княжеские
палаты, но не найдя спасения и там, удалился в Троицкое подворье. Бунтующие
заговорщики с бранью преследовали его и едва не убили. Наконец на подворье
был взят и митрополит и также сослан в заточение в Кириллов Белозерский
монастырь." [59; 423].
Но наиболее показательным является (в эпоху опричнины) мужественный протест и
мученическая смерть митрополита Филиппа, которого впоследствии причислили к
лику святых. Филипп сначала отказался от принятия предложенного ему сана и
открыто поставил со своей стороны условием отмену опричнины. Однако,
принужденный царем и собором, затем он вынужден был принять предложение.
Когда в 1557 г. страну захлестнули массовые репрессии, творимые Иваном IV и
его опричникам, Филипп обратился к царю с пастырьским увещанием. "Тайная
беседа его с царем не усмирила последнего, а только убедила, что митрополит
сторонник бояр... Митрополит Филипп, поняв, что потерял доверие царя, решил
нарушить свой обет молчания в виду непрестанных казней жертв царской
подозрительности. В марте 1568 г. митрополит обратился к Ивану Васильевичу в
Успенском соборе с открытым обличением в несправедливых жестокостях. "Филипп!
¾ пригрозил митрополиту царь, ¾ Не прекословь державе нашей, да
не постигнет тебя мой гнев". Но Филипп уже твердо встал на дороге героя и в
один из ближайших воскресных дней в том же Успенском соборе снова разразился
обличениями против царя, выведшего его из терпения. Царь Иван и придворный
штат опричников были одеты в свою раздражающе-маскарадную форму: черные
кафтаны и высокие шлыки. Царь подошел к митрополичьему месту и ждал
благословения. Митрополит Филлипп, как бы не замечая его, пристально смотрел
на образ Спасителя. Придворные обратили внимание святителя на смиренную
фигуру царя: "Владыко, Государь пред тобою, благослови его". Тогда, взглянув
на Ивана Васильевича, Филипп с пастырским дерзновением и гневным пафосом
произнес: "В сем виде, в сем одеянии странном не узнаю царя православного! Не
узнаю его и в делах государственных. Кому поревновал ты, приняв сей образ и
изменив свое благолепие? Государь, убойся суда Божия, на других ты закон
налагаешь, а сам нарушаешь его. У татар и язычников есть правда, на одной
Руси ее нет. Во всем мире можно встречать милосердие, а на Руси нет
сострадания даже к невинным и к правым. Мы здесь приносим бескровную жертву
за спасение мира, а за алтарем без вины проливается кровь христианская. Ты же
сам просишь у Бога прощения в грехах своих, прощай же и других, погрешающих
пред тобою"..."Филипп, ¾ воскликнул царь, ¾ ужели ты думаешь
изменить нашу волю?! Лучше бы тебе быть единомысленным с нами". "Тогда суетна
была бы моя вера,¾ возразил митрополит, ¾ я не о тех скорблю,
пекусь о твоем же спасении". С каждым словом гнева и правды св. Филипп все
более и более рисковал своим положением и даже жизнью, но вместе с тем все
более и более выигрывал в своем нравственном авторитете пред лицом
предстоявшего народа... 8-го ноября Филиппа заставили служить литургию в
Успенском соборе. Но во время богослужения сюда явился боярин Басманов с
толпой опричников и прочитал пред народом соборный приговор о низложении
митрополита. После этого опричники сорвали с Филиппа архипастырские одежды,
облекли его в старую монашескую рясу, вытолкали из храма и на дровнях свезли
в Богоявленский монастырь. Целую неделю страдалец сидел в оковах в смрадной
монастырской тюрьме, затем был перевезен в старый Никопольский монастырь,
куда царь прислал митрополиту отрубленную голову одного из его
родственников... После этих издевательств св. Филипп был сослан в Тверской
Отрочь-монастырь, где через год Малюта Скуратов собственноручно задушил его"
[59; 446-447].
Если власть царя, бояр, всего государственного аппарата держалась на Силе,
Насилии и Страхе, то всеобщее преклонение и уважение монахов, впоследствии
названных нестяжателями, основывалось на их высоком духовном и моральном
авторитете. Они являлись центрами притяжения всех здоровых, устремленных к
добру и духовности сил общества, которые пополняли их ряды с самых различных
его слоев. Вышеназванный митрополит Филипп был из боярского рода Колычевых.
Пафнутий Боровский был татарского рода из семьи баскаков, сборщиков татарской
дани. Многие бежали от жестокости, мерзости жизни, чтобы спастись, обрести
душевный покой. А.В.Карташев, описывая процесс становления основанного
Иосифом Волоколамского монастыря, пишет: "Ростовский князь Андрей Голенин
сначала часто являлся к Иосифу послушать и поучиться у него. Его
чувствительная душа уязвлена была перспективой страшного суда и вечных мук.
Он уже начал вести жизнь самоотречения, прощал обиды, был милостив со своей
прислугой, раздавал милостыню. Но размах его героической воли требовал
большего. Вдруг он приезжает в монастырь с толпой слуг в парадных одеждах и
на лучших конях с серебрянными украшениями... Князь поспешно входит в церковь
и тут же бросается к игумену в ноги, прося безотлагательно снять с него
нарядную одежду и облечь в убогую монашескую, постричь его тут же, не выходя
из церкви. А князь все свои драгоценности, все, что не только на нем и с ним,
но и все свои имения, три села со скотом и инвентарем отдает сюда же в
монастырь Пресвятой Богородицы. Иосиф... с восторгом тут же постригает его.
Вскоре некоторые из особенно любивших князя, по его примеру, тоже пришли в
монастырь. Довольно быстро собралась около Иосифа в монастыре толпа
разнообразных подвижников. То были люди и родовитые, и простые. Таков был
Дионский трудолюбец из князей Звенигородских. Работал он в пекарне за двоих и
сверх того ежедневно клал по три тысячи поклонов. Одним из позднейших
постриженников Иосифа был Нил Полев из рода князей Смоленских" [59; 404].
Примат обрядности в религиозной жизни
Как было показано выше, мистическое ядро ментального пространства русского
православия XIII ¾ ХVІ в.в. составляли монахи нестяжательной
ориентации. Другой слой, "защитный пояс" вокруг "ядра", составляли люди
преимущественно зажиточные (бояре, купцы, дворяне), жившие в миру, для
которых христианские ценности были определяющими ценностно-мыслительными
ориентациями. Подобный идеальный тип добропорядочного домохозяина-христианина
воспроизведен в "Домострое", одним из главных побуждений которого было
искреннее стремление к телесной и душевной чистоте и страх божий.
Особенностью их ментальности был также естественно сложившийся деспотизм,
недостаточное образование и внешнее восприятие христианства, преимущественно
через обрядность. Для большинства же населения всех социальных групп
христианство также сводилось к различным формам обрядности. Именно этот
ментальный слой был наибольшим в религиозном духовном пространстве культуры,
бросался в глаза внешнему наблюдателю. Митрополит Феодосий (1461¾1464)
предпринял попытку исправить нравы низшего духовенства, навести элементарный
порядок в их рядах, наставить на божий путь. Он удалил погрязших в грехе
дьяков и священников, чем вызвал большое недовольство в невежественном
русском обществе, потому что многие церкви осталась без священнослужителей.
Разочарованный Феодосий оставил митрополию и ушел в Чудов монастырь, взял к
себе в келью расслабленного старца и стал служить ему. Консерватизм
религиозной среды полностью блокировал возможности духовного развития,
освоения духовного потенциала христианства. "Пастыри все более привыкли
отождествлять сущность веры, ¾ пишет П.Н.Милюков, ¾ с ее
внешними формами. С другой стороны, масса, не усвоившая первоначально даже и
форм веры, постепенно приучалась ценить их. Правда, по самому складу своего
ума она стала приписывать ритуалу то самое таинственное, колдовское значение,
какое и раньше имели для нее обряды старинного народного культа. Магическое
значение обряда сделалось причиной и условием его популярности. Но зато обряд
и послужил той серединой, на которой сошлись верхи и низы русской
религиозности: верхи ¾ постепенно утрачивая истинное понятие о
содержании; низы ¾ постепенно приобретая приблизительное понятие о
форме" [189; 27].
Имплантация деспотизма в русское православие
Две несовместимые, диаметрально противоположные фундаментальные тематические
структуры, деспотическая и православно-христианская, закладывали глубокий
разрыв ценностно-мыслительного пространства русской культуры.
С одной стороны, после установления татаро-монгольского ига для всех русских
людей северо-восточной Руси истина христианства стала совершенно, до боли в
сердце, очевидной. В литературе второй половины XIII века все в один голос
объясняют происшедшее божьей карой за грехи. Абсолютная ценность учения
Иисуса Христа была принята всеми. Можно утверждать, что в поисках душевного
успокоения резко возросла искренность, интенсивность религиозного чувств.
Язычество как вера ушло и проявлялось как эпизод: в праздники, в суевериях и
т.п. Внешним выражением этих процессов был рост авторитета, благосостояния
русской православной церкви, которая, претерпев ущерб и невзгоды в эпоху
завоевания татарами Руси, в условиях установленного татарскими ханами режима
благоприятстования быстро восстановилась и наращивала свое влияние.
Примечательно, бояре, князья, великие князья перед смертью демонстрировали
приоритет христианских ценностей, когда просили священнослужителей постричь
их в монахи и таким образом обрести спасение.
С другой,- в ежедневной практической жизни продолжили господствовать и еще
более возросли Сила и Добыча, натуралистические ценности, создававшие
атмосферу насилия и страха (от татар, удельных князей, а затем московских
великих князей, бояр и т.д.). Этот антихристианский натуралистический
комплекс тем-ценностей, официально осуждаемый всеми с христианских позиций,
реально, безусловно, доминировал и выступал в качестве абсолютных ценностей в
том смысле, что именно они служили ценностным основанием мотивации поведения
в повседневной жизни. Поэтому жизнь в преобладающей массе оказалась в
разрыве, в разломе, которую никак не удавалось склеить для нормального
существования. В определенном смысле можно сказать, что жизнь в "пограничной
ситуации" стала обычным, обыденным явлением. С точки зрения современных
гуманистических представлений об абсолютной ценности человеческой жизни,
внутреннего духовного мира человека и т.д. в таком мире жить было нельзя или
в лучшем случае можно, удалившись из него в скитах, в монастырях, попытаться
жить по христианским заповедям, что, впрочем, и делали многие, подобно
С.Радонежскому и другим.
Расколотое в своих глубинах ментальное пространство русской культуры второй
половины XIII ¾ первой половины ХV в. интегрировалось на его
поверхности. Создаётся впечатление, что для его функционирования как
целостной, объективной ценностно-мыслительной реальности сам собой сложился
механизм стабилизации, блокирования движения в глубины духовного мира.
Мировосприятие, осознание жизни, своей собственной в том числе, происходило
как бы во внешнем поле, несубъективно, неэгоцентрично. Выражением тому
явилось восприятие христианства через культ, странное для индивидуалистов
¾ западноевропейцев засилье обряда в верованиях и жизни московитов.
Восхождение к высотам Духа было возможно только вне социального мира, в
религиозном порыве, неосознанно, нерефилективно, подтверждением чему служит
взлет искусства русской иконы в этот период.
Со второй половины ХV в. по мере утверждения власти московского князя в
качестве царя разворачивается процесс цесаризации тематического пространства
русской культуры, по существу означавший легитимизацию и даже освящение
культа Силы и Насилия, который, однако, происходил теперь не от татар или
удельных князей, а от московского царя и его слуг (бояр, дьяков и др.). При
этом наблюдается относительное падение христианских ценностей. Русское
православие становится заложником, средством обоснования абсолютной темы-
ценности “царя”. Фактическое отделение русской церкви от константинопольской
привело к существенному ослаблению ее позитивной, нравственной роли в
Московском государстве. “Самое общее явление, какое мы наблюдаем в даный
период в жизни русской митрополии, ¾ пишет А.В.Карташев, ¾ то,
что она с замечательной исторической постепенностью высвобождается из под
церковной власти над ней Константинопольского патриарха и столь же постепенно
обратно пропорционально этому освобождению, подпадает под зависимость
светской власти своего русского правительства.
Вместе с этим процессом перехода от одного рода зависимости к другому,
русская митриполия, а через нее и вообще русская церковь, теряет многое в
своей внутренней свободе и самостоятельности. Будучи вначале учреждением,
имеющим опору вне русской нации, как филиальная часть церкви
Константинопольской, русская митрополия в этом почерпала и всю желательную
для нее свободу по отношению к местной гражданской власти, т.к. во главе
русской церкви стояли бессменные ставленники патриарха ¾ иностранцы по
происхождению.
При этой форме своего высшего управления русская церковь, не говоря уже о
полноте ее внутренней свободы, даже в политическом смысле представляла собой
силу, превосходящую значение великокняжеской власти, потому что эта последняя
не могла удерживать под своим влиянием все части раздробленной Руси, тогда
как единая русская митрополия стягивала их в одно целое и долгое время
объединяла в себе, сверх того еще и государственно отделенную западную
половину Руси. ...Неизбежным результатом национализации русской высшей
церковной власти было ее фактическое подчинение национальной государственной
власти, подчинение все более и более возраставшее с течением времени. Как
представители национальной русской церкви, митрополиты по-прежнему продолжали
служить укреплению и возвышению великокняжеского, а затем царского авторитета
в государстве. Но, несмотря на это, или может быть, вследствие этого, все
более проигрывали в полноте и независимости своего собственного авторитета и
своей собственной свободы" [59; 449-450].
Цесаризация ментального пространства русской культуры в начале ХVI в. привела
к возникновению противоборства между двумя течениями внутри русской церкви,
нестяжателями и иосифлянами. Нет необходимости рассматривать различия их
социально-политических, церковных программ. Для нас важна их
культурологическая оценка. Движение нестяжателей, возглавляемое игуменом
Сорским Нилом (Майковым), опиралось на основную традицию древнерусского и
русского монашества, представляло собой воплощенную совесть, сокровенную
сердцевину русского православия. Нестяжатели открыто демонстрировали
неприятие погрязшего в грехе мира и в то же время безупречное в своей
последовательности служении Иисусу Христу, следовании только христианской
морали. Показательно отрицание и презрение к посюстороннему миру в завещании
Нила Сорского: “Завещаю о себе моим вечным господам и братьям, людям моего
нрава молю вас, бросьте тело мое в этой глуши, чтобы съели его звери и птицы,
потому что грешило оно перед богом много и недостойно погребения. Если же
этого не сделаете, тогда, выкопав яму глубокую на месте, на котором живем, со
всяким бесчестием погребите меня. Бойтесь же слова, которое Арсений Великий
завещал своим ученикам, говоря: на суде стану с вами, если кому-нибудь
отдадите тело мое. Я стараюсь, насколько в моих силах, не быть способленным
чести и славы века сего никакой как в жизни этой, так и по смерти моей”
[109; 323]. Если мы встречаем благородные, мужественные, высокоморальные
поступки, то из числа сторонников этого движения. И это вполне понятно,
потому что доблесть, честь, благородство только тогда проявляются как высокая
мораль, когда во всех ситуациях им отдают предпочтение как высшим, абсолютным
ценностям.
Другое движение более многочисленное и влиятельное в русской церкви
группировалось вокруг игумена Волоколамского Иосифа (Санина) и получило
название иосифлян. Как известно, иосифляне были принципиальными стяжателями.
Преподобный Иосиф говорил: “Аще у монастырей сел не будет, како честному и
благородному человеку постричися? И аще не будет честных старцев, отколе
взять на митрополию, или архиепископа, или епископа, или на всякие честныя
власти? А коли не будет честных старцев и благородных, ино вере будет
поколебание” [59; 407]. Анализ уставных положений организации Волоколамского
монастыря показывает внедрение мирских ценностей, экспансии цесарски-
деспотической фундаментальной тематической структуры
“царь”¾“сила”¾“насилие”¾“страх”
и в монастырской жизни. Иосиф отходит от демократической традиции равенства
всех монахов перед богом и утверждает их неравенство. Он вводит три
категории в укладе жизни монахов. Низший чин, чернорабочие, выполняют самую
тяжелую работу, кроме праздников, получает только хлеб, ветхую одежду и на
ноги лапти. Второй монашеский чин имеет горячее питание, одевается в рясу,
мантию, зимой в шубу, имеет кожаную обувь. Высший разряд получает и рыбное
кушанье, и калачи, и по две одежды. Но все три разряда под одеждой обязаны
носить власяницы. Устанавливалось монашеское общежитие, жесткий контроль и
подавление индивидуального начала. Исключалась всякая еда и питание вне
трапезной. Даже вне трапезного часа, чтобы напиться квасу, братия сходятся к
погребу. Лишь в праздники да по болезни настоятель может разрешить и питьё, и
некоторое ядение в кельи. Во время трапезной еды запрещен разговор и
слушалось уставное чтение. Лишь в праздники монахи могли прогуливаться вне
стен монастыря, но всегда под надзором старший. За нарушение устава
полагались в наказание поклоны, сухоядение, временное отлучение от причастия,
сажание на цепь и битье железом. [59; 406]. Согласно Иосифу Волоцкому: "Всем
страстем мати ¾ мнение. Мнение ¾ второе падение" [59; 412].
"Дисциплинировать необузданного первобытного человека ,¾ пишет
А.Б.Карташев,¾ научить, заставить его “ходить по струнке”, это то, о
чем он тосковал и в меру достижения чего он испытывал искомое удовлетворение"
[59; 407].
Таким образом, несвобода, сила, насилие и страх вошли и в монастыри
волоколамского типа, которых становилось все больше и больше. Именно
иосифляне были главными певцами, пропагандистами мифа о Москве ¾ III
Риме, божественной природе царской власти московских князей. Именно они
способствовали укоренению в русском сознании идеи абсолютной, самодовлеющей
ценности темы “царя” за счет падения, подчинения ей христианских тем-
ценностей. Благодаря стяжателям-иосифлянам русская церковь все более попадала
в зависимость от московского царя. Если митрополиты нестяжательской
ориентации (Варлаам, Иоасаф, Филипп) терпели лишения, добровольно покидали
митрополию, шли на смерть, мужественно противостояли царскому насилию,
беззакониям, утверждали высший авторитет христианских принципов, то
митрополиты-иосифляне своей угоднической, продажной деятельностью подрывали
авторитет русской православной церкви, способствовали дальнейшей
деморализации русского общества. После изгнания митрополита Варлаама Василием
III был поставлен на русскую митрополию иосифлянин Даниил, который, пообещав
князю Шемячичу безопасность, сдал его царю, а затем говорил, что он “избавил
великого князя от запазушного врага Шемячича” [59; 418]. Даниил пошел на
беспрецедентный по своей безнравственности в истории русской церкви
проступок: развел Василия III с неплодной женой Соломонией Сабуровой,
насильно постриг ее в монашество под именем Софьи и сам венчал великого князя
на новый брак с Еленой Глинской. Даниил несправедливо засудил и беспощадно
наказал за проповедь нестяжательства М.Грека и Вассиана Патрикеева. По
свидетельству С.Герберштейна, Даниил, “человек крепкого и тучного сложения, с
красным лицом. Не желая казаться преданным более чреву, нежели постам,
бдениям и молитвам, он перед отправлением торжественных богослужений всякий
раз окуривал себе лицо серным дымом, чтобы придать ему бледности, и с такой
поддельной бледностью он обычно и являлся народу” [34; 89]. Во время
правления Ивана IV после изгнания и мученической смерти митрополита Филлипа
митрополиты-иосифляне Кирилл IV и Антоний были послушным орудием в руках
царя. Митрополит Кирилл IV и собор дали разрешение на четвертый брак Ивана
IV, вакханалия насилия захлестнула страну.
После собора 1503 г., на котором иосифляне одержали победу над нестяжателями,
был удален Нил Сорский и его друг старец Паисий. Нестяжательство как движение
сошло на нет и постепенно прекратило свое существование. В то время, как
начал твориться миф о “Святой Руси”, в Московии святого места не осталось.
Не вдаваясь в перепитии церковной реформы середины ХVII в. митрополита Никона
и царя Алексея Михайловича, которая привела к расколу в русской церкви,
заметим, что ее варварское, насильственное проведение ударило по ее наиболее
искренне верующей части; по тем людям, которые не могли просто отказаться от
ранее принятой формы веры. В русском фольклоре есть любопытный рассказ о двух
царях, истинном и ложном. Когда Петр I заблудился в лесу. Ему повстречался
старец из старообрядцев, который, назвав его “антихристом и праведных людей
погубителем”, предсказал, что он попадет в домовину, искупит свои грехи,
покается, будет прощен, и нарекут его царем истинным, православной веры
укрепителем. После долгих блужданий выбившегося из сил Петра I на опушке леса
окружили благочестивые старцы и начали обряд по истовой вере справлять.
Принесли из лесу домовину по обряду с песнопениями, обмыли, опеленали тело
Петра I и в нее положили. Домовину закрыли, с молитвами в могилу опустили и
холмик насыпали. Лежит он в могиле. Разум остался, а бренные останки тлению
подверглись. В это время Александр Меньшиков, Лефорт, бояре вынуждены были
искать Петру I замену. Боярин Стрешнев привел своего родича, который был
очень похож на царя Петра. В один голос все признали его царем, а всем
сказали, что царь Петр нашелся. С этого дня на Руси стало два царя: один
истинный, что искупление себе от грехов в могиле замаливает, а другой
¾ с бесовскими потехами старую веру искореняет. После того, как Петр
истинный в могиле телом обновился и душу покаянием очистил, он чудесным
образом освободился из могилы, стал проповедовать, православную веру
укреплять. Как прознал царь Петр ложный, что царь Петр истинный проявился,
приказал найти его и предать лютой казни. Петр истинный сам отдал себя в руки
воинов Лефорта, чтобы принять великие мучения, очиститься от грехов огненным
крещением. Его палачи рвали тело его на части, а вырванные куски снова
нарастали, топили его в Неве-реке с жерновом на шее, а он по воде пошел, цел
и невредим. Было решено сжечь царя Петра истинного в срубе. Когда сруб начал
догорать, из самого пекла вылетел белый голубь и скрылся из глаз [93; 189-
205]. Эта старообрядческая легенда для нас представляет интерес идеей о двух
царях, ложном и истинном. Она убедительно показывает, сколь глубока и
несокрушима в сознании русского человека была тема “царя”. Даже когда
становится очевидно, что реальный царь является антихристом, источником зла,
гонений, чтобы не запятнать святую, самую сокровенную идею божественности
царской власти, вводится представление о реальном царе как ложном и
фантастическом царе, как истинном. Русская литература от сказок, народных
преданий до больших художественных произведений богата изощренными, самыми
неожиданными ходами, чтобы сохранить в неприкосновенности абсолютную ценность
¾ тему “царя”.
Таким образом, основными источниками формирования ценностно-мыслительного
пространства русской культуры второй половины ХV ¾ ХVII вв. были две
фундаментальные тематические структуры, цесарски-деспотическая и православно-
христианская, которые образовывали глубинный его разрыв. Преодоление
внутреннего разлома ментального пространства происходило как за счет
формирования механизмов блокирования движения русского духа вглубь, так и
посредством цесаризации и авторитаризации духовного пространства русской
культуры. Все это предопределило антигуманный, ненормальный, болезненный
характер эволюции русского культурно-исторического процесса.
§6. Оценка внешнего ( западноевропейского) наблюдателя русской культуры XVI
¾XVII вв.
В российской и советской историографии сложилась устойчивая традиция весьма
высокомерного отношения к свидетельствам западноевропейских источников о
духовном, нравственном развитии русского народа рассматриваемого периода.
В.О.Ключевский в своей книге "Сказания иностранцев о Московском государстве"
пишет: "Внешние явления, наружный порядок общественной жизни, её материальная
сторона ¾ вот что с наибольшею полнотой и верностью
мог описать посторонний наблюдатель. Напротив, известия о домашней жизни, о
нравственном состоянии общества не могли быть в такой же степени верны и полны:
эта сторона жизни менее открыта для постороннего
глаза, и притом к ней менее, нежели к другим
сторонам народной жизни, приложима чужая мерка. Беглые наблюдения, сделанные в
короткое время, не могут уловить наиболее
характеристических черт нравственной жизни народа; для оценки её путешественник
мог иметь пред собой только отдельные, случайно попавшиеся ему на глаза явления
, а нравственная жизнь народа менее всего может быть определена по
отдельным, случайным фактам и явлениям. Наконец, в большей части случаев
западноевропейский путешественник не мог даже верно оценить отрывочные явления
этой жизни: нравственный быт и характер русских людей описываемового времени
должен был казаться ему слишком странным, слишком несходным с основными его
понятиями и привычками, чтобы он мог отнестись к
нему с полным спокойствием, взглянуть на него не с своей личной точки зрения
, а со стороны тех исторических условий, под влиянием которых слагался этот
быт и характер. Оттого иностранные известия о нравственном состоянии русского
общества очень отрывочны и бедны положительными указаниями, так что по ним
невозможно составить сколько-нибудь цельный очерк ни одной из сторон
нравственной жизни описываемого ими общества;
зато в этих известиях дано слишком много места личным, произвольным мнениям
и взглядам самих писателей, часто бросающим ложный
свет на описываемые явления» [64;8].
С этими утверждениями трудно согласится. Т
аким образом, проведенная В.О.
Ключевским внутрення цензура исследуемых источников
существенно снизила значение его работы. Для нас
же в этом параграфе именно "свидетельства иностранцев о нравственной,
семейно-бытовой жизни в Московии представляют главный интерес,
именно здесь, с одной стороны, проявляются, а с
другой ¾ сталкиваются фундаментальные ценностно-мыслительные ориентации
западноевропейского и русского человека, которые и станут предметом нашего
тематического анализа.
Царь–деспот
Для всякого иностранца, приехавшего в Московию в ХVI веке, бросается в глаза
безграничная и всеохватывающая власть русского царя. Монархистский образ
мышления в то время был господствующим способом мышления. Однако все они в один
голос отмечают своеобразие абсолютной монархии в Московском государстве,
которое выражается в установлении всеобщего и полного рабства, тотальной
зависимости всего населения от князя и боярина до простолюдина, от его
волеизъявления. "Я считаю его,¾ пишет Ж.
Маржерет, ¾ одним из самых неограниченных государей из существующих
на свете, так как все жители страны, благородные и неблагородные, самые братья
императора называют себя
холопами господаря, т.е. рабами императора" [135,. 240].
"Властью, которую он имеет над своими подданными, ¾ отмечает
С.Герберштейн,¾ он далеко превосходит всех монархов целого мира. Всех
одинаково гнетет он жестоким рабством [34; 72].
"Государь, каковым является царь или великий князь, получивший по наследию
корону, один управляет всей страною, и все его
подданные как дворяне и князья, так и простонародье, горожане и крестьяне,
являются его холопами и рабами, с которыми он обращается как хозяин со своими
слугами" [135; 354].
Мы имеем достаточно свидетельств о жестокости, беззакониях, коварстве
английских, испанских, французских и других европейских государей. Однако,
после рыцарской ментальной революции подобные деяния королей не воспринимались
населением как норма. Власть короля от Бога имеет
божественное оправдание. По своему предназначению король обязан быть источником
справедливости, добродетели верности божественному закону, заботе о народе и
т.д.
Анализируя характер политического мышления во Франции в XV веке Ю.П.Малинин
пишет: "Идея справедливости в то же время выражала и смысл существования
государства, как он представлялся большинству политических мыслителей ХV в. Во
Франции того времени государство мыслилось не иначе как в форме монархии,
поэтому политическая власть идентифицировалась с королевской. Главной функцией
королевской власти, как и рыцарства, считалось поддер
жание справедливости в обществе. Король был наиболее могущественным гарантом
правопорядка и именно в его справедливости видели смысл существования
государства. "Посредством справедливости правят короли, ¾ писал
Ж.Шатлен,¾ и без их справедливости государства... превратились бы в
разбойничьи притоны". Справедливость короля начиналась с его добродетели,
только будучи сам справедливым (праведным), он мог, как считалось
, проводить справедливую политику, т.е., говоря словами Г. де Ланнуа,
охранять добрых и мирных людей от угнетения, злокозненности и насилия со
стороны сильных и лживых... беспощадно наказывать злодеев в соответствии с
законами и обычаями страны". В своей политике государь должен сообразоваться с
законами страны, не менять их и не устанавливать новых по своему произволу, не
притязать на собственность подданных и защищать её от посягательств других.
Понятиями, противоположными справедливости и справедливому государю, были
тирания и тиран. Тирания выводилась из безнравственности монарха, следствием
чего было притеснение подданных, посягательство на их собственность, войны и
прочие беды. При этическом складе политического мышления проблемы
государственного управления обычно сводились к проблемам нравственным, и
объяснение тех или иных политических событий искали в душевных свойствах
государя и его приближенных" [165;404]. Поэтому
при совершении даже самых мерзких дел королям приходилось прикрываться личиной
добродетели. Ф.Бэкон об английском короле Генрихе VII пишет: "И хотя это был
государь испытанной воинской доблести, ревновавший о чести Англии, и к тому
хороший законодатель, облегчавший участь простого народа, однако его жестокости
и убийства родственников перевешивали в общем мнении его добродетели и заслуги,
а во мнении мудрых людей и сами эти добродетели были скорее проявлениями
притворства и лицемерия, служившими его честолюбию, нежели подлинными
свойствами его ума и характера" [22; 5]. Эти функции в реальной деятельности
русского царя практически отсутствуют и даже не вменяются ему в обязанность. В
ХVII в. цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович
придали русскому самодержавию лоск благочестия. Однако
насильственно-тираническая его природа осталась неизменной.
П.Петрей отмечает, что "ни один царь на свете не сравнится с ним в силе и
богатстве. Потому-то он и сам называет себя сыном царя Давида и вторым
Соломоном и не хочет ничем уступить им в почете, богатстве
, могуществе, величии, уме и мудрости" [99; 400
]. "Великий князь всё держит в своих руках: города,
крепости, сёла, дома, поместья, леса, озера, реки,
честь и достоинство. На столь обширном пространстве
земель, по-видимому, ничто не может быть
значительнее тех сил и богатств, которыми он владеет"
иностранцев вполне очевидно, что источником всеобщей зависимости московитов
является отсутствие частной собственности. По
мнению Дж.Флетчера: "Оба класса, и дворяне и
простолюдины в отношении к своему имуществу суть ничто иное, как хранители
царских доходов, потому что все нажитое ими рано или поздно переходит в царские
]. "В результате этого,¾ пишет
А.Поссевино,¾ никто не может определенно сказать, что ему принадлежит
, и (хочет ¾ не хочет) каждый зависит от воли князя. Если у
кого-нибудь есть излишки, он тем более чувствует себя
связанным, сделавшись более состоятельным, тем более боится за себя. Поэтому
часто они все отдают князю. Отсюда возникает угодливость и страх, так что никто
аскрыть..." [135;47].
Неразвитость правового пространства
препятствует формированию правового пространства. Неразвитость правового
сознания, правовых отношений четко фиксирует Дж
х законов у них нет, кроме одной небольшой книги, в коей определяются время и
образ заседаний в судебных местах, порядок
судопроизводства и другия тому
подобныя судебныя формы и обстоятельства, но
нет вовсе правил, какими могли бы руководствоваться
судьи, чтобы признать самоё дело правым или неправым.
Единственный у них закон есть закон изустный, т.е. воля
Царя, судей и других должностных лиц. Все это показывает жалкое состояние
несчастного народа, который должен признавать
источником своих законов и блюстителями правосудия
тех против коих несправедливости и крайняго
угнетения ему необходимо
было иметь значительное количество хороших и строгих
"Здесь нет ни одного, кто бы имел судебную должность или власть, переходящу
ю по наследству, или основанную на грамоте, но
все определяются по назначению и воле Царя, и
судьи так стеснены в отправлении своей должности, что не смеют решить ни одного
особенного дела сами собою, но должны пересылать
арскую Думу. Чтобы показать власть свою над жизнию
подданных, покойный Царь Иван Васильевич во время
прогулок или поездок приказывал рубить головы тем, которые попадались ему
навстречу, если их лица ему не нравились, или когда
кто-нибудь неосторожно на него смотрел. Приказ
исполнялся немедленно, и головы падали к ногам ег
; 503-504].
Отсутствие духа свободы или атмосфера тотального рабства
Отрицание Собственности
и Закона делает невозможным существование в ментальном пространстве духа
Свободы. Напротив, устанавливается гнетущая атмосфера тотального рабства,
безысходной зависимости. Рабская психология всех слоев общества для "внешних"
наблюдателей становится одной из примечательных черт
русских людей. Обсуждается даже проблема: является ли эта особенность
врожденной, национальной? "Этот
народ,¾ пишет С.Герберштейн,¾
находит больше удовольствия в
рабстве, чем в свободе. Ведь по большей части господа перед смертью
отпускают иных своих рабов на волю, но эти последние тотчас отдают себя за
деньги в рабство другим господам" [34; 11
2]. "Могло бы показаться,¾ размышляет
А.Поссевино,¾ что этот народ скорее рожден для рабства, чем сделался
таким, если бы большая часть их не познала порабощения и не знала, что их дети
и все, что они имеют, будет убито и уничтожено, если они перебегут куда-нибудь.
Привыкнув с детства к такому образу жизни, они как бы и
зменили свою природу и стали в высшей степени превозносить все эти качества
своего князя и утверждать, что они сами живут и
благоденствуют, если живет и благоденствует
князь" [125; 48-4
Глубинная деформация общественного сознания
приобретает настолько глубокий характер, что
приводит к его ценностному перевороту. Источник з
ла воспринимается как высшая добродетель. "Князю все оказывают такой почет,
который едва можно представить в помышлении. Они
очень часто говорят (если даже так и не думают),
что их жизнь, благополучие и все остальное дарованы
им великим князем. По их мнению, все приписывается милости божьей и милосердию
великого царя, то есть короля и императора, как они
называют своего князя. И под палками, и чут
ь не умирая, они иногда говорят, что принимают
это как милость» [125; 48]. «Русские содержатся в
строгом и суровом повиновении,¾ пишет
П.Петрей ¾ и всегда должны служить,
работать и возиться с чем-нибудь. Они любят, чтобы понуждали их сильными ударами
, и если господин не часто отрабатывает своего холопа
хорошею плетью, то не получает от него ника
кой и пользы. Перенося немного побоев
, холоп вправе сказать, что над ним станут смеяться и пре
зирать его другие холопы, оттого что господин не сечет и не колотит его.
Бедняк и нищий продается сам за небольшие деньги
во владение богатым, на все время своей жизни, а
часто и с таким условием, что он, его жена, дети и
внуки вечно будут служить
им и их потомкам, пока они живы. Если же
господин его умрет и перед кончиною, из милости и
сожаления, освободит его со всем родом из рабства
, он продается другому, потому что там больше любят неволю, нежели свободу.
Когда отец продает сына или дочь и потом они
освобождаются из рабского состояния, отец имеет
право взять их и продать в третий и четвертый раз, если же и
после того они получат свободу, он уже больше не может продать их"
[99; 424-425].
Согласно П.Петрею: "Великий князь у его подданных в
таком высоком почете, что они считают его не только
могущественным царем и государем, но и божественным человеком, который всегда
имеет обхождение с богами и может смирять и одолевать своих неприятелей
, если захочет..." [99; 261]. По мнению
А.Олеария, русские "ставят своего царя весьма высоко
, упоминают его имя во время собраний с величайшим почтением и боятся его
весьма сильно, более даже, чем
осковиты с детства имеют обыкновение так говорить и думать о своем государе
, получив это установление из рук предков, что
чаще всего на ваш вопрос отвечают так: "Один бог и
великий государь это ведают", "Наш великий государь сам все
знает", "Он единым словом может распутать все узлы и затруднения", "Нет
такой религии, обрядов и догматов которой он бы не
знал", "Что бы мы ни имели, когда преуспеваем и
находимся в добром здравии, все это мы имеем по
милости великого государя". Такое мнение о себе он поддерживает среди своих с
удивительной строгостью, так что решительно хочет казаться чуть ли не
первосвященником и одновременно императором. Самой своей одеждой, окружением и
всем прочим он старается выказать величие даже не королевское, но почти
папское. Можно сказать, что все это заимствовано от
греческих патриархов и императоров
, и то, что относилось к почитанию бога, он перенес на прославление себя
самого" [125; 2З]. Русские "прямо заявляют, что
воля государя есть воля божья и что бы ни сделал государь, он делает это по
Царь, его поведение, организация дворцовой жизни
служили образцом, задавали стереотип, клише, с
которым сверяли, по которому
меряли собственное поведение, собственную
жизнь. "В распорядках домашнего быта у
домохозяев,¾пишет русский историк Н.И.
Костомаров ¾ соблюдались такие же обычаи, как в царской придворной
жизни: главный хозяин в своем дворе играл роль государя и в самом
деле назывался государем, слово это означало
домовладыку; другие же члены семейства
находились у него в таком же отношении, как родс
твенники царя: слуги были то же, что служилые
у царя, и потому-то все, служащие царю, начиная от бояр до последних ратных
людей, так как и слуги частного домохозяина, назывались холопами. Господин, как
царь, окружал себя церемониями: например, когда он ложился спать, то один из
слуг стоял у дверей комнаты и охранял его особу. Гос
подин награждал слуг и оказывал им своё благоволение
, точно так же, как поступал царь со своими
служилыми: жаловал им шубы и кафтаны со своего
плеча или лошадей и скотину, посылал им от своего стола подачу, что означало
милость. То же делала госпожа с женщинами: одних
примолвляла, то есть награждала ласковым словом, других дарила или посылала
им подачу со своего стола. При дворе частных домохозяев, как и при дворе
царском, сохранялся обычай отличать заслуги и
достоинство слуг большим количеством пищи. При огромном количестве слуг во
дворе богатого господина существовали приказы, такие точно, как в царском
управлении государством, под главным контролем ключника и дворецкого
... Прислуга вообще разделялась, как служилые царские люди, на статьи:
большую, среднюю и меньшую" [68; 150-151].
Самый глубокий надлом в сознании русского человека совершил Иван IV Грозный. Его
свирепая, нередко ничем не мотивируемая,
самодовлеющая Сила установила атмосферу Насилия как норму социального бытия.
Сила и Насилие пропитали воздух, заполнили все
пространство обширного русского государства. Привычка всех сло
ев населения к ежедневному, постоянному
, как к электро-магнитному полю Земли, насилию
породила внутреннюю потребность в нем. Эту особенность русских людей не бе
з удивления отметили западноевропейские наблюдатели.
"Трудно понять,¾ размышляет
С.Герберштейн,¾ то ли народ по своей грубости нуждается в
государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым
, бесчувственным и жестоким" [34; 74]. А.Поссевино
утверждает, что "этому народу можно оказывать благодеяния, но он до такой
степени впитал в себя другие качества, что больше ценит того, кто внушает ему
страх, чем того, кто прямо соглашается на их
требования" [125; 75].
П.Петрей приводит мнение некого Бучинского, по
его мнению хорошо знавшего москоские обычаи,
который полагал, что московитами надо управлять "со строгостью, что вполне
справедливо, ибо московитов можно удержать только
страхом и принуждением, и ежели им дать волю, то они ни о чем не помышляют"
[99; 121].
Царство насилия
Отношения насилия в большей или меньшей степени
составляют основу практически всех социальных, бытовых,
семейных и др. отношений. Всеобъемлющий характер Насилия выступал в качестве и
первопричины, поскольку восхождение по причинно-следственной цепи от следствия
к причине так или иначе упиралось в насильственное действие. Н.И.Костомаров
справедливо пишет: "Вообще господа обращались со
своими слугами деспотически и охотнее следовали таким пастырским нравоучениям,
раб или рабыни тебя не слушает и по твоей воле не ходит
, то плети нань не щади"
, чем таким, где заповедовалось господам считать рабов за братьев. Нередко
случалось, что господин насиловал своих рабынь, не
обращая внимания на их мужей, растлевал девиц; случалось
, что убивал до смерти людей из своей дворни, все ему сходило с рук. Сами
слуги не имели понятия, чтоб могло быть иначе, и не оскорблялись побоями и
увечьями: за всяким тычком не угоняешься, гласит
пословица; рабу все равно было, справедливо или несправедливо его били:
господин сыщет вину, коли захочет ударить, говорили они.
Те слуги, которые не составляли достояния господ
, кои присуждены были к работе за деньги или же отдавши себя во времен
ную кабалу, не только не пользовались особенными льготами от безусловной
воли господ, но даже подвергались более других
побоями и всякого рода стеснениям. У русских было понятие
, что служить следует хорошо тогда только, когда
к этому побуждает страх,- понятие общее у всех
классов, ибо и знатный господин служил верою и правдою царю, потому что боялся
побоев; нравственное убеждение вымыслило пословицу: за битого двух небитых
дают. Самые милосердные господа должны были прибегать
к палкам, чтобы заставить слуг хорошо исправлять
их обязанности, без того слуги стали бы служить скверно. Произвол господина
удерживался только тем, что слуги могли от него разбежаться, притом обокравши
его. Напротив, господин славился тем, что хорошо
кормил слуг. Русские не ценили свободы и охотно шли в холопы. В ХVII веке иные
отдавали себя рубля за три на целую жизнь. Получив деньги
, новый холоп обыкновенно пропивал их и
проматывал и потом оставался служить хозяину до смерти. Иные же, соблазнившись
деньгами, продавали себя с женами, с детьми и со всем потомством.
Иногда же бравшие деньги закладывали заимодавцу
сыновей и дочерей, и дети жили в неволе за родителей. Были и такие, которые
поступали в холопы насильно: еще до воспрещения перехода крестьянам помещик
нередко обращал их в холопы. В ХVII веке служилые люди торговали самым
возмутительным образом женским полом в Сибири. Они насильно брали беспомощных
сирот-девиц, иногда сманивали у своих товарищей жен, делали на них фальшивые
крепостные акты и потом передавали из рук в руки, как вещь.
Толпы слуг вообще увеличивались во время голода и войны. Во время голода
потому, что многие из-за дневного пропитания отдавали
себя навеки в рабство, а во время войн дворяне и
дети боярские, убегая от военной службы,
записывались в холопы..." [68; 152-153].
Бытие в страхе
Внешняя атмосфера насилия порождает внутренне
состояние страха. Страх, который стал обыденной но
рмой социального бытия, перестают замечать.
Однако для западноевропейцев бытие в страхе было
примечательным явлением русской жизни как формы превращенного,
ненормального бытия. У С. Гер
берштейна есть любопытная зарисовка из жизни
заложившего традицию грозных русских царей Ивана III, которая в полной мере
передает приниженное существование в постоянном страхе при дворе высших
сановников: "По отношению к женщинам он был до такой степени грозен
, что если какая из них случайно попадалась ему на
глаза, то при виде его только что не лишалась жизни. Для бедных, угнетенных
более могущественными и ими обижаемых, доступ к
нему был прегражден. Во время обедов он по большей части предавался такому
пьянству, что его одолевал сон, причем все приглашенные меж тем сидели
пораженные страхом и молчали. По пробуждении он обыкновенно протирал глаза и
тогда только начинал шутить и проявлять веселость по отношению к
гостям... Впрочем, как он ни был могущественен,
а все же вынужден был повиноваться татарам. Когда прибывали татарские послы
, он выходил к ним за город навстречу и стоя выслушивал их сидящих. Его
гречанка-супруга так негодовала на это, что повторяла ежедневно, что вышла
замуж за раба татар, а потому, чтобы оставить когда-нибудь этот рабский обычай,
она уговорила мужа притворяться при прибытии татар больным"
[34; 68]. Примечательно, что в этой
самодовлеющей рабской психологии, основанной на насилии и страхе
, сам царь не был исключением. По традиции он ощущал себя таким же рабом
только перед татарским ханом. Для Софьи
Палеолог, воспитанной в традициях западноевропейской и византийской
ментальности, поведение Ивана III в отношении к
татарскому хану представлялось крайне
оскорбительным.
Другую бытовую зарисовку из жизни купечества приводит
Дж.Флетчер: "Этот страх простирается в них до
того, что весьма часто можно заметить, как они
пугаются, когда кто из бояр или дворян узнает о
товаре, который они намерены продать. Я нередко
товар свой (меха и т.п.), все оглядывались и смотрели на двери, как люди,
которые боятся, чтоб их не настиг и не захватил
какой-нибудь неприятель. Когда я спросил их, для
чего они это делали, то узнал
, что они сомневались, не было ли в числе
посетителей кого-нибудь из царских дворян или какого сына боярского
, и чтоб они не пришли со своими и не взяли у них насильно весь товар"
[166; 531].
ХVI веке система
доносительства и всячески поддерживаемая м
еуверенности, непрочности собств
"Нигде не было откровенности
Костомаров,¾ все боялись друг друга. Нег
нести на другого, всегда в таком случае можн
ость и сдержанность.
чайное множество: в ряды их вступа
ли те бедные дворяне и дети боярские, которые за
от службы, тоже по доносу других, ли
шались своих поместий. Они вторга
лись всюду: на свадьбы, на похороны и на пиры
¾ иногда в виде
богомельцев и нищей братии. И царь, таким
людьми не было товарищества; в
се друг другу старались повредить, чтобы
выиграть самим. Но всего действительнее д
ля ябедника, всего опас
государева, то есть обвинен
арю" [68; 172].
Тотальное отчуждение
Своеобразие русской жизни, существенно отличающее
её от западноевропейского образа жизни, составляет
тенденция к самоизоляции, замкнутости. Нарастание
ментального изоляционизма было обусловлено усилением процессов феодальной
раздробленности в XI ¾ XIII вв. как с
Западной Европе, так и в Киевской Руси. Однако по мере развития то
рговых, культурных связей, географических
открытий и др. в западноевропейских странах все более укреплялся дух открытости
, взаимного обмена между ними, а также нарастала жажда открытия
, освоения, ассимиляции, а по возможности и подчинения, и европеизации иных
ментальных образований. Расширение границ Московского государства по мере "соби
рания русских земель" и усиления деспотических отношений, нап
ротив, стимулировало
поцессы к самоизоляции, к упрощению,
схлопыванию ментального пространства культуры. В этой связи важно отметить
открытость ментальных миров Новгорода и Пскова, которые были разрушены в ходе
московского завоевания. Усиление культурной
изоляции обычно сопровождается падением образования, культурного уровня
, завышенной самооценкой, рос
том националистических амбиций и др.
Эти обстоятельства и фиксируют "внешние" наблюдатели. По сообщению
А.Поссевино, без уведoмления
дозволяется уезжать к
иноземцам. Хотя купцы других стран приплывают и
приезжают в Московию, однако никто из московитов
обычно не ездит в другие страны, если его не пошлют. Не разрешается даже иметь
кораблей, чтобы [никто] не сбежал таким путем, и,
наконец, считается, что слишком тесным общением с
иностранцами можно принести какой-то вред князю. Но даже тем, кого он иногда
отправляет в качестве послов к христианским
государям, не разрешается
разговаривать с посланцами, прибывшими к
великому князю
московскому в ответ на
его посольство. И это
удивительно, eсли
что, хотя послам, какого
Москве предоставляется
обширное помещение, оно
огорожено со всех сторон
что оттуда невозможно
ни увидеть каких-нибудь домо
кем-нибудь разговаривать
врачам, которых только д
князя (один итальянец,
другой фламандец), не
дозволялось навещать б
этого не разрешит''
[125; 24-25].
чер такой характер
организации внутренней жизни объясняет стремлениям
удержать народ в рабском состоянии: «С т
ою же целию им не дозволя
чему-нибудь в чужих
го путешественника, разве чт
о с посланником или беглого, но бежать отс
юда очень трудно, потому что все гра
ницы охраняются чрезвычай
но бдительно, а
наказание за подобную попытку, в случае, если
поймают виновного, есть смертная ка
знь и конфискация всего
то весьма немногие. По той же причине не дозволено
ать в их государство из какой-либо обра
зованной державы иначе, как по торговым
сношениям, для сбыта им своих товаров и д
ий чужеземцев» [166; 53
2-533].
Замкнутость как характерную черту русского
отмечает и H.И.Костомаров: ''Bce в таком доме
носило характер замкнутости и
разобщения со всем остальным. Все в нем старал
нас!" и потом дожидаться
, пока ему скажут: "Аминь
". По нравственным п
онятиям века, честный человек
должен был стараться, чтобы никто
я узнавать, как живут в чуж
их дворах. [68;148].
Подавление личности
выше, западноевропейское
мышление рассматривае
мого периода в своей основе бы
ло сословным и религиозно-этическим. Это о
значает, что христианские ценности и
ли его фундаментальную структуру. Поскольку все
были христианами, то критерием отличия
высшего сословия было благородство происхо
ждения как наследственно пр
и разум, и нравственное достоинство, котор
ые достигаются посредством обра
зования и воспитания, индивидуальног
о совершенствования. Совокупность этих качеств,
внешняя оценка и собственная самооценка создают
представление о чести, которые определяют норму
поведения благородного человека и составляют его
броню, охраняющую его личность, его достоинство. В
Московии представления о чести существенно от
личались от западноевропейских
. Для русских людей в понятие чести не входило в качестве неот
ъемлемого его компонента образование и собственное нравственное достоинство
, поскольку в Московском царстве Силы, Насилия и Страха формирование и
развитие личностного начала было заблокирован
о. Поэтому достоинство и честь русског
о боярина, дворянина и других определялись его
родоводом, находившим реальное выражение в местнической
лествице, а также его должность
ю в административной системе, т.е. внеличностн
ими, надличностными факторами. Будучи частицей
управления, человек, как монада, стан
овился носителем ее основных свойств ¾
Силы, Насилия и Страха. Чем более высокое место в чиновничьем аппарате он
занимал, тем в большей степени от являлся носителем свойств этой системы.
Степень обладания Силой, Насилием и производимым
Страхом определяли уровень притязан
ия достоинства и чести. Таким образом, честь и
достоинство носили деспотический характер, являлись
формой выражения доминирующих тем-ценностей, "сил
ы", "насилия" и "страха". Если в западно-европейской культуре представления о
чести и достоинстве способствовали формирован
ию личности, осознанию ее абсолютной
русская интерпретация этих качеств сохраняла психологию раба, поскольку все без
инсключения мыслили себя как средство
, холопами царя.
Падение добродетели
Неразвитость индивидуального начала, а также
деформированное деспотическим режимом общественное и индивидуальное
сознание, трансформировали представления о нормах добродетели, идеале. В
современной литературе весьма активно обсуждается проблема деформации
индивидуального и общественного сознания в
тоталитарных обществах (социалистическом,
фашистском) в XX веке. Однако, на наш взгляд, еще недостаточно прослежена
связь превращенной формы общественного сознания
Советской России с предыдущими этапами генезиса русского менталитета, особенно
с периодом Московского государства, т.е. до ХVIII
в., до правления Петра I. Здесь только отметим,
что "внешние" наблюдатели ХVI и ХVII вв. отмечают
хитрость, коварство, неверность слову, в делах и
других русских людей. Так, Дж.Флетчер пи
шет:"Что касается до верности слову, то Русские
большею частию считают его почти ни по чем, как
скоро могут что-нибудь выиграть обманом и нарушить данное обещание. По истине
можно сказать (как вполне известно тем, которые имели с ними более дела по
торговле), что от большого до малого (за исключением весьма немногих, которых
очень трудно отыскать) всякий Русский не верит ничему,
что говорит другой, но зато и сам не скажет ничего
такого, на что бы можно было положиться
. Эти свойства делают их презренными в глазах
всех их соседей, особенно Татар, которые считают себя гораздо честнее и
справедливее Русских. Те, которые внимательно обсуждали состояние обоих
народов, полагают, что ненависть к образу
правления и поступкам Русских была до сих пор главною причиною язычества Татар
и их отвращения от христианской веры" [166; 60
2-60З]. "...Если при заключении сделки,
¾сообщает С.Герберштейн,¾ ты
как-нибудь обмолвишься или что-либо неосторожно пообещаешь, то они все
запоминают в точности и настаивают на исполнении,
сами же вовсе не исполняют того, что обещали в свою очередь. А как только они
начинают клясться и божиться, знай, что тут сейчас
же кроется коварство, ибо клянутся они с
намерением провести и обмануть" [34
;127]. По его мнению, особенно "преуспели" в
этом отношении москвичи: "Народ в Москве
, говорят, гораздо хитрее и лукавее всех прочих, и особенно вероломен при
исполнении обязательств. Они сами прекрасно знают об этом обстоятельстве
, а потому всякий раз, когда общаются с
иноземцами, притворяются, будто они не
московиты, а пришельцы, желая тем внушить к себе
большее доверие'' [34; 133]. При этом, как отмечалось выше, С
.Герберштейн подчеркивает значительное отличие
в лучшую сторону новгородцев и особенно псковичей до московского завоевания,
после которого нравственные устои новгородского и псковского демократических
обществ были порушены.
П.Петрей в отношении русских нравов ХVII
в., пожалуй, излишне категоричен
: "Москвитяне по природе чрезвычайно грубы, распущены и невежливы в своих
нравах, ухватках и разговорах: они совсем не считают грешным и срамным делом
вести разговоры об ужасных вещах, не стыдятся
также кашлять, харкать, икать и выпускать кое-что задницей за обедом в гостях,
в церквах или в другом месте, на улице или на рынке,
да еще смеются и очень потешаются тем" [99
; 418]. П.Петрей, как и практически все иностранцы, отмечает красоту,
богатство природных ресурсов
Московии, а падение нравов и жестокость русского общества объясняют суровым
деспотическим царским режимом. "Эта страна вообще
очень красива, хороша и плодородна
, но народ в ней груб, невежественен, мешковат,
неучтив и ни на что не годен. Причиною того сами русские
, потому что правительство держит их так строго и крепко, точно невольников
и кабальных рабов; они и не хотят научиться ничему приличному и честному,
никуда не выезжают из своей земли, а все сидят
дома, полагая, что город Москва ¾ единственный в свете, и великий их
князь ¾ самый могущественный и богатейший государь изо всех королей, не
думают, что ему есть равные по богатству и могуществу, пышности и величию.
Оттого-то они так горды и кичливы умом и сердцем, през
ирают все другие народы и оказывают своему великому
князю такое уважение, такие почести и услуги, точно он не государь их и
правитель, а сам Бог" [99; 4
23].
Жестокий мир
Действительно, это был жесто
кий мир, в котором "слезам не верят". Ж
естокость, порой бессмысленная, немотивированная
жизни, так и во внешних от
ношениях, в частности в период военных действий с сопредельными странами.
Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, в
западноевропейской культуре со времен великой духовной революции VI в. до н.э.,
когда сформировалась ФТС ментального прос
сложилась устойчивая традиция отрицания насилия, жестокости во внутренней жизни
общества и во внешних отношениях, которые рассматривались как проявления
варварства. Правда, следует отметить, что с высоты гумани
зма конца XX в. представления о жестокости и насилии на разных этапах
заподно-европейской истории были весьма относительны (рабство в античном
мире, инквизиция в средневековье, колониальная политика ХVI ¾ XX
вв, расправы с крестьянскими и рабочими восстаниями и др.). Однако по мере
демократизации западноевропейского общества четко прослеживается тенденция
смягчения нравов, в том числе и в период с IX
по ХVII вв. В посвящении своей книги о
Московии австрийскому эрцгерцогу Фердинанду I
С.Герберштейн свое время (первая половина ХVI в.) характеризует как "наш
крайне утонченный век" [34; 56]. Поэтому на
иностранцев-европейцев тяжелое впечатление произ
водили проявления жестокого насилия в России. Они донесли до нас множество
описаний подобных деяний в период правления Ивана
III, Василия III, особенно Ивана IV, в Смутное
время, свидетелями которых они были сами или
записанных по рассказам. Можно сомневаться в достоверности
, в точности описываемых событий, но несомненным остается
фактом их существования в общественн
ом сознании русских людей, насыщенность
подобного рода явлениями ментального пpocтpaнcтвa
культуры.
Жестокость в чистом виде порой принимает характер игры, народной забавы.
С.Герберштейн оставил описание массовой драки как развлечения во время
равно как и подростки, сходятся обычно по
праздничным дням в городе на всем известном просторном месте, так что видеть и
слышать их там может множество народу. Они созываются свистом, который служит
условным знаком. Услышав свист, они немедленно сбегаются и вступают в
рукопашный бой; начинается он на кулаках, но вскоре бьют бе
з разбору и с великой яростью и ногами по
лицу, шее, груди, животу и паху и вообще
всевозможными способами одни поражают других, добиваясь победы, так что
зачастую их уносят оттуда бездыханными. Всякий, кто побьет больше народу,
дольше других остается на месте сражения и храбрее выносит удары
, получает в сравнении с прочими особую похвалу и считается славным
победителем. Этот род состязаний установлен для того, чтобы юноши привыкали
переносить побои и терпеть какие угодно удары" [3
4; 117-118].
Жестокость есть чистая форма выражения физической
силы. В цивилизованном обществе чистые формы
проявления Силы невозможны, запрещены Законом. Ее проявление допустимо только в
лишенных агрессивности культурных формах. При переходе от варварства к
цивилизации древние греки изобрели один из наиболее удачных способов
укрощения Силы, канализированного выброса ее энергии ¾ Олимпийские,
Панафинейские и др. игры. В Московии она
сконцентрировалась в руках царя, а затем рассыпалась множеством форм по всему
пространству русского государства, проявляясь в чистом, первозданном виде.
Западноевропейские наблюдатели (С.Герберштейн.
Дж.Горсей и др.) описывают бессмысленную,
свирепую жестокость Ивана III при завоевании Великого Новгорода, Ивана IV во
время кровавого похода на этот уже потерявший свое былое величие город. Они
приводят немыслимые для тех времен цифры количества жертв (700 тыс. убитых и
замученных мужчин, женщин и детей; Дж.Горсей).
Для нас важна не их недостоверность, а то, что в народной молве в число этих
жертв верили. Под
тверждением тому приведенный выше рассказ "Иван
Грозный в Новгороде»
[93; 81].
Но особенно тягостное впечатление на
западноевропейцев, вероятно, произвели описания
зверств русских войск Ивана IV в Ливонии, стране
из европейского мира. Примечательно
, русские (и советские) историки,обычно мысля
надличностными категориями, интересами России,
как правило, опускают этот трагических аспект
ливонской кампании Ивана Грозного как допустимые издержки при решении великих
задач и пишут с большим воодушевлением и подъемом о з
авоевании городов и новых территорий. По сообщению
Дж.Горсея, Иван IV "покорил многие крепости,
города и деревни, захватил все богатство, скот,
людей на своем пути к Пернову,
Хаапсал, Лиль,
Венден, Голдингем,
Митау и многие другие укрепленные города,
расположенные у Восточного моря, числом до 30 и в пределах двухсот миль в округе
также были захвачены. Ужасны были вопли гибнувших
в жестокой резне, пожарах и опустошениях, женщин и девушек
, раздетых донага, несмотря на мороз, без
жалости избивали, привязывали по три и по четыре к
хвостам лошадей и тащили полумертвых-полуживых, заливая кровью дороги и улицы,
полные мертвых тел стариков, женщин, младенцев; среди них были и знатные люди,
одетые в бархат, камку и шелк, украшенные драгоценностями, золотом и жемчугом;
люди этого края ¾ красивейший в мире народ как по своей породе
, так и благодаря сухому и холодному климату страны. Бесчисленные толпы этих
людей были уведены в Россию. Богатства, взятые
деньгами, товарами и другими сокровищами и вывезенные и
з этой страны, ее городов, а также из 600
ограбленных церквей, не поддаются перечислению" [39; 53]. "Это самая
прекрасная страна, текущая молоком и медом и всеми другими благами
, ни в чем не нуждающаяся, там живут самые красивые женщины и самый приятный
они очень испорчены гордостью, роскошью, ленью и
праздностью, за эти грехи бог так покарал и разорил эту нацию, что большая
часть ее была захвачена в плен и продана в рабство в Перси
ю, Татарию, Турцию и отдаленную часть Индии. Мне удалось по особой милости
выкупить за небольшие суммы и освободить и
з плена некоторых мужчин, женщин и детей, среди них были именитые купцы, я
помог перебраться одним из них в Ливонию. другим
¾ в Гамбург и Любек" [39; 69]. Опуская
леденящие кровь картины издевательств над местным насел
ением, приведем еще одну оценку этих событий П.
Петреем: "Ни один человек не выскажет вполне
страшного, нехристианского и варварского образа
действий этого тирана в Ливонии с попавшими в его
руки бедняками и этой, сильно заметной в нем, ненасытной жадности до
христианской крови, также и других дел его произ
вола. Потому что не бывало и не рождалось еще на свете ни одного ужасного
и гнусного кровопийцы, которого бы можно было сравнить с этим лютым
зверем. Все, что ни писали о других тиранах,
царствовавших в мире, пустяки в сравнении с этим. Его лучшая отрада и
удовольствие состояли в том, чтобы смотреть, как казнят людей позорною казнью,
рубят их, вешают, варят, жарят, тиранят и
подвергают другим страшным мукам. Между разными жестокими делами этого князя в
Ливонии не из последних и те, которые он
совершил над 500 благородных и добродетельных женщин и девушек при взятии
города Ашерота. Он отдал их страшным татарам,
чтобы они опозорили их на его глазах, и потом
велел безжалостным образом умертвить их и изрубить
Это была первая попытка русского правителя с
кровавым топором прорубиться в Европу. Ее пресёк
польский король С.Баторий.
Женщина в атмосфере насилия
Как известно, одним из проверенных критериев определения уровня ра
звития гуманизма, нравственного развития
общества является отношение к женщине, ее положение в обществе. Когда в
обществе строятся социальные, политические,
семейно-бытовые отношения по принципу господства и подчинения (на языке
тематического анализа: когда доминируют темы
"силы", "насилия" и "страха"), то иным как
угнетенным положение женщин в таком обществе быть не может. "Положение женщин,
¾ пишет С.Герберштейн, ¾ весьма
плачевно. Они (московиты) не верят в честь женщины,
если она не живет взаперти дома и не находится под
такой охраной, что никуда не выходит. Они отка
зывают женщине в целомудрии, если она позволяет смотреть на себя посторонним
или иностранцам. Заключенные дома, они только прядут и сучат нитки
, не имея совершенно никакого голоса и участия в хо
зяйстве; все домашние работы считаются делом рабов. Всем, что убито руками
женщины, будь то курица или другое какое животное,
они гнушаются как нечистым” [34; 11
2]. С.Герберштейн приводит показательную
историю, которая будет кочевать по книгам о допетровской России. "Есть в
Москве один немецкий кузнец, по имени Иордан
, который женился на русской. Прожив некоторое время с мужем, она как-то ра
з ласково обратилась к нему со следующими словами:
"Дражайший супруг, почему ты меня не любишь?"
Муж ответил: "Да я сильно люблю тебя
". "Но у меня нет еще, ¾ говорит жена, ¾ знаков любви". Муж
стал расспрашивать, каких знаков любви ей надобно,
на что жена отвечала:"Ты ни ра
зу меня не ударил". ''Побои, ¾ ответил муж,
¾ разумеется, не казались мне знаками любви,
не отстану". Таким образом. немного спустя он
весьма крепко побил ее и признался мне, после этого жена ухаживала за ним с
гораздо большей любовью. В этом занятии он упражнялся затем очень часто и в на
шу бытность в Московии сломал ей, наконец шею
и ноги" [34; 112]. Трудно судить
, насколько достоверен этот эпизод и насколько
правомерно на его основании делать обобщения о русских нравах. Однако
знаковость его заключается в демонстрации
деформированности сознания русского человека,
для которого насилие стало потребностью, родом
удовольствия.
Н.И. Костомаров рисует более мрачную картину места женщины в русском обществе
: “Все иностранцы поражались избытком домашнего деспотизма мужа над жено
ю. В Москве, замечает один путе
шественник, никто не унизится, чтоб преклонить
колено пред женщиною и воскурить пред нею фимиам. По законам приличия,
порожденным византийским аскетизмом и глубокою татарскою ревностью, считалось
предосудительным даже вести с женщиною ра
зговор. Вообще женщина считалась существом ниже мужчины и в некотором
отношении нечистым: таким образом, женщине не дозволялось резать животное:
полагали, что мясо его не будет тогда
вкусно. Печь просфоры позволялось только
старухам. В известные дни женщина считалась недостойною
, чтоб с нею вместе есть. Русская женщина была
постоянною невольницею с детства до гроба. У
знатных и зажиточных людей Московского государства женский пол находился
взаперти, как в мусульманских гаремах. Обращение
мужьев с женами было таково: по обыкновению у мужа висела плеть,
исключительно назначенная для жены и на
зываемая дураком; за ничтожную вину муж таскал жену
девал донага, привязывал веревками и сек
дураком до крови ¾ это называлось учить жену; у иных
межьев вместо плети играли ту же роль розги, и
жену секли, как маленького ребенка, а у других
, напротив, дубина, и жену били, как скотину
. Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще
вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не
бил жены, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и о
своей душе не радеет и сам погублен будет и в сем веке, и в будущем, и дом свой
погубит. "Домострой" человеколюбиво советует не бить жены кулаком по лицу, по
глазам, не бить ее вообще железным или деревянным орудием
, чтобы не изувечить или не допустить выкидыша ребенка, если она беременна;
он находит, что бить жену плетью и разумно, и
здорово. Это нравственное правило проповедовалось православною церковью, и
самим царям при венчании митрополиты и патриархи читали нравоучения о бе
зусловной покорности жены мужу. Привыкшие к рабству, которое влачить суждено
было им от пеленок до могилы, женщины не имели
понятия о возможности иметь другие права и верили
, что они в самом деле рождены для того, чтоб мужья их били, и даже самые
побои считали знаком любви. Женщины говорили: "Кто
кого любит, тот того лупит, коли муж не бьет,
значит не любит"; пословицы эти и до сих пор
существуют в народе, так же, как и
верь коню в поле, а женщи
не на воле", показывающая
, что неволя считалась принадлежностью женского существа.
Женщина получала более уважения, когда оставалась вдовою и притом была
матерью. Тогда как замужняя не имела вовсе
личности сама по себе, вдова была полная госпожа и глава семейства"
[68; 138 -141,144]. Такое отношение к женщине в русской
культуре ХV ¾ ХVII вв. вполне понятно и об
ъяснимо еще и потому
что, русский Дух не прошел через цивилизующее горнило рыцарской революции,
"мотором" которой в Западной Европе был культ прекрасной дамы и рыцарская
любовь к ней, поднявшие темы "женщины" и возвышенной "любви" до абсолютных
ценностей.
Своеобразие русского православия
"Внешние" наблюдатели отмечают господство обрядовой
стороны в христианской вере в Московии.
Им представляется, что религио
зный порыв русских сводится исключительно к культу. По мнению
Н.И.Костомарова: "Русское благочестие
основывалось больше на внимании к внешним обрядам,
чем на внутреннем религиозном чувстве
" [68; 275]. "Быть благочестивым, по понятию
знаменоваться крестом, класть земные поклоны, почитать образа, ходить в церковь
с приношениями, слушаться духовенства и хранить посты"
[68; 267]. А. Поссевино подчеркивает, что русские
"очень строго придерживаются постов,
воздерживаются от молока и мяса, но церковь посещаю
т редко" [125; 29]. "Ни один пост не соблюдают они
так строго, как Великий, ¾ пишет П.Петрей,
¾ что перед Пасхой. Потому что как ни долго он тянется, их ни угрозой, ни
есть мясо. У них даже омерзение к тому, так что они не дотронутся и к
ножику, которым было резано мясо, и считают это самым большим грехом, какой
только можно сделать. Митрополиты, епископы, игумены и монахи должны
поститьcя строже священников и мирян. В посты они должны довольствоваться
хлебом с солью и плохим напитком, который делается
из муки и небольшого количества воды и стоит до
тех пор, пока не скиснет. Другого напитка они не
пьют постом, ни пива, ни меду, ни водки, если не хотят себе наказания
" [99; 454]. "Все духовные лица, как
епископы, так и священники и монахи, по их обыкновению и уставу очень усердны
молиться, читать и петь свои часы в церквах днем и
ночью, думая, что исправляют тем особенно угодную
службу Богу и св. Церкви, и хотят у него снискать
оправдание и вечное блаженство такою по наружности святого жи
знью и добрыми делами". [99; 425].
Это обстоятельство несомненно свидетельствует об искренности русского
религиозного чувства. Преследующий цель распространения католицизма в
Московии А.Поссевино эту особенность русского
православия рассматривает в качестве позитивной
основы для успешной миссионерской деятельности:"
.Существует нечто общее, что роднит наших людей
, уже с давних времен искушенных в делах католической церкви
, с ними. Я имею в виду простоту, воздержание
, покорность, отвращение к богохульству, а это дает большую надежду, что они
смогут быть еще более постоянными в благочестии католической религии
" [125; 35].
Если атрибутом западноевропейской культуры является постоянная рефлексивная
деятельность, деятельность по самоосмыслению, самообоснованию,
самоконструированию и поэтому ее ментальное пространство рационально нагружено,
то атрибутом русской культуры является
экзистенциальность, существование в бытии,
которое само собой складывается, самодовлеет, само собой течет. Его русло
воспринимается как традиция. Никто не выходит из
этого потока, чтобы посмотреть, описать, оценить
характер и направление этой реки русской жизни.
Поэтому ментальное пространство русской культуры ХVI ¾ ХVII
вв. нетеоретично и внерационально.
Рациональные мерки к нему неприложимы.
Западноевропейцев поражает христианская вера
русских людей. Вера без знания. "Все они
(епископы, священники и др.
¾В.М.).¾ пишет А.Поссевино,¾
включая и монахов. удивительно невежественны в
науке, касающейся происхождения их вероучения. Некоторые даже не могли
ответить, кто основатель их устава, когда мы у них об этом спрашивали.
Предполагают, что это некое подобие устава Василия
Великого" [125; 22]. "Там нет ни одной
коллегии или академии. Существуют только кое-какие
школы, в которых мальчики обучаются читать и
писать по Евангелию, деяниям апостолов, по
имеющейся у них хронике, по некоторым другим авторам, в первую очередь по
Иоанну Златоусту, по гомилиям и житиям святых
или тех, кого они почитают за святых" [125; 25]. "Священники суть люди
совершенно необразованные
,¾ отмечает Дж.Флетчер
,¾ что, впрочем, вовсе неудивительно,
потому что сами поставляющие их, епископы, точно
таковы же и не извлекают никакой особенной пользы
из каких бы то ни было све
дений или из самого Священного Писания, кроме того, что читают его и поют.
Общая их обязанность состоит в том, чтобы отправлять литургию, совершать
таинства по принятым у них обрядам, хранить и украшать образа, наконец
, соблюдать все другие обряды, принятые их
Церковью" [166; 572]. "О степени просвещения
монахов можно судить по епископам, которые суть самые избранные лица и
зо всех монастырей. Я говорил с одним из них в Вологде и (желая испытать его
знания) дал ему Священное Писание на Русском языке
, открыв первую главу Евангелия Св. Матфея. Он принялся читать весьма
хорошо. Тут спросил я его прежде всего, какую
часть Священного Писания он прочел теперь? Он отвечал, что не может сказать
наверное.¾ Сколько было Евангелистов в
Новом Завете? ¾ Он отвечал, что не знает.
¾ Сколько было Апостолов? ¾По его мнению, 1
2.¾ Каким образом надеется он быть спасенным? ¾ На этот вопрос
отвечал он мне, сообразно учению Русской Церкви, что не
знает еще, будет ли спасен или нет, но если Бог пожалует или помилует и
спасет его, то он будет этому очень рад; если же нет, то нечег
Я спросил его, для чего он постригся в монахи? Он отвечал, для того, чтобы
покойно есть хлеб свой. Вот просвещение Русских монахов, о котором хотя и
нельзя судить по одному человеку, но по невежеству
его можно отчасти заключать и о невежестве прочих
" [166; 575-576].
Религиозное невежество является следствием одной из форм проявления
господствующей атмосферы невежества, которое в свою очередь выступает одной из
главных консервативных сил, прежде всего, в лице
клириков русской православной церкви, препятствующей развитию образования и
просвещения. Дж.Флетчер, пытаясь разобраться в
причинах общей необразованности в Московии,
Будучи сами невеждами во всем, они стараются всеми средствами воспрепятствовать
распространению просвещения, как бы опасаясь
, чтобы не обнаружилось их собственное невежество и нечестие. По этой
причине они уверили Царей, что всякий успех в образовании может произвести
переворот в государстве и, следовательно, должен
быть опасным для их власти. В этом случае они правы, потому что человеку
разумному и мыслящему, еще более возвышенному
познаниями и свободным воспитанием, в высшей степени трудно переносить
принудительный образ правления. Несколько лет тому назад, еще при покойном
Царе, привезли из Польши в Москву типографский станок и буквы, и здесь была
основана типография с позволения самого Царя и к величайшему его удовольствию.
Но вскоре дом ночью подожгли, и станок с буквами совершенно сгорел, о чем, как
полагают, постаралось духовенство" [166;
571]." Если покажется, что кто-нибудь захочет продвинуться в учении дальше
он не избежит подозрения и не останется безнака
занным. Таким путем, по-видимому, великие
князья московские следят не столько за тем, чтобы устранить повод к ересям,
которые могли бы из этого возникнуть, сколько за
тем, чтобы пресечь путь, благодаря которому кто-либо мог бы сделаться
более ученым и мудрым, чем сам государь
" [125; 25]. "Здесь очень жестоко наказывают
того, кто осмеливается сказать что-нибудь против
русских религиозных обрядов и догматов. Всякая воз
можность произносить проповеди исключается, а это
почти единственный путь внесения евангелийского
света, присущий божественной му
дрости. Если бы кто-нибудь попытался сделать что-нибудь подобное
, это оказалось бы для него чрезвычайно опасным
и встретило бы большие трудности, разве только он действовал бы по обету
" [125; 31].
Отвлекаясь от темной, антипросветительской стороны русского православия, следует
подчеркнуть его существенное отличие от католициз
ма и протестантизма как иного типа веры. Католицизм и протестантизм
ХVI ¾ ХVII вв. как порождения
западноевропейского Духа представляют собой
достаточно сложные, рационально упорядоченные
тематические пространства ¾ плод
длительной и непрерывной духовной работы теологов
, философов и др. Напротив, в русской православной
церкви теологическая работа практически не велась,
практически отсутствовала рефлексивная установка, традиция –
деятельность по осмыслению, обоснованию, систематизации христианских
представлений. Поэтому русское религиозное сознание ХVI ¾ ХVII
вв. (а также, естественно, и XIII ¾ХV
вв.) не было рационально нагруженным, было
внерационально и представляло собой чистый акт веры, чистый религиозный
порыв, особенно интенсивный в среде монашества. Подобный тип верования описал
С.Кьеркегор, когда анализировал незамутненную
веру Авраама. Он справедливо отмечал ее внешнюю
непрезентабельность, полное отсутствие рефлексии в
деятельности Авраама в истории с жертвоприношением Исаака и вместе с тем
искренность религиозного чувства, столь его
восхищавшую.". Вера начинается как раз там, ¾писал С.Кьеркегер,
¾где прекращается мышление" [171; 52]. Подобный нерефлексивный тип веры
живет только в сокровенном переживании, не
фиксируется в языке. Для "внешнего" (особенно
рацинально перегруженного западноевропейского) наблюдателя видимой остается
лишь внешняя, обрядовая сторона. Однако это не означае
т, что один тип веры более "чистый", более "искренний"
, чем другой. Различие идет скорее по
основанию рефлексивный-
нерефлексивный, рационализированный–
нерационализированный.
Само же русское православие рассматриваемого
периода, как известно, в различных социальных слоях существенно различалось.
Западноевропейцев поражало пьянство русских священников. "Священники тоже
бывают пьяны. ¾отмечае
т П.Петрей,¾ потому что их угощают,
когда они придут куда-нибудь с крестом и святою водою, часто бегают по улицам,
падают там и валяются в грязи, как скоты. За это с
них не взыскивается, если же в пьяном виде они сделают что-нибудь неприличное
, их секут розгами" [99; 443]. "Мы
видели,¾ сообщает С.Герберштейн,¾
как в Москве пьяных священников всенародно подвергали бичеванию
; при этом они жаловались только на то, что их бьют рабы, а не боярин
" [34; 90]. Если в западноевропейской культуре
глубинную основу регуляции отношений между людьми составляли системы
христианской и светской морали, которые были в большой степени совместимыми
системами, первая даже выступала в качестве
основания второй; то в русской культуре Страх служил первоосновой
, детерминировал, выстраивал и задавал характер
всех отношений между людьми. Страх божий и страх перед царем и его чиновниками
¾ вот первоисточники религиозной и бытовой морали в
Московии. Отсюда глубинный разлом ментального пространства русской культур
ы, в котором религиозный и цивильный миры
оказиваются существенно различными реальностями. В
социально-бытовых отношениях христианские заповеди практически не работали.
Поэтому и поведение людей в этих в значительной степени несовместимых мирах
весьма отличалось, что и вызывало удивление
иностранцев-европейцев.
Русский и западно-европейский миры
урологический тематический анализ оценки "внешнего"
(западноевропейского) наблюдателя русского образа
жизни в Московии ХVI ¾ ХVII вв. показывает
существенные различия ментальных пространств
русской и западноевропейской культур. Различия эти настолько велики
, что можно даже говорить об их несовместимости, поскольку они отличаются
архетипической структурой, динамикой и направлением развития ментальных
пространств, их характером функционирования. Если тематическое пространство
западноевропейской культуры складывается из трех
субпространственных конфигураций (архетипов религиозности, натурализма и
хомоцентризма), то в архетипическом
пространстве русской культуры отсутствует архетип хомоцентризма,
индивидуалистические ценностно-мыслительные ориентации. Если, начиная с эпохи
Возрождения, ментальное пространство западноевропейской культуры приобретает
все большую динамику, наблюдается развертывание субпространств архетипов
натурализма (географические откры
тия, развитие экономики, науки, рост
благоустройства и потребления и т.д.), хомоцентризма
(развитие гуманизма, субъективизма в философии,
литературе, искусстве, правового законодательства
и др.), существенная перестройка архетипа религио
зности (развитие протестантизма, модернизация католицизма), то в русской
культуре нарастают процессы изоляции, деградации,
схлопывания ментального пространства. Лишь усиление влияния
западноевропейской культуры во второй половине ХVII в. в русской культуре
вызывает некоторое оживление. Если в
западноевропейской культуре развитие индивидуализма (расширение
субпространства архетипа хомоцентризма), поступательное распространение
демократии на все новые слои западноевропейского общества приводили к
преобладанию индивидуалистических, личностно-ориентированных ценностей, то в
русской культуре укрепление централизованного государства полностью блокировало
развитие личностного начала, индивидуалистических ценностей, деформировало
индивидуальное и общественное сознание, утверждало
безусловный и абсолютный приоритет надличностных
тематических ценностей ("царя", "Русской земли"),
которые формировали представление о человеке лишь как средстве, а не ценности
самой по себе. Если в западноевропейской
культуре, продолжая и развивая традиции
древнегреческой и древнеримской культур, все
более усилился рефлексивный характер функционирования процессов самоотражения,
самоосмысления, самоконструирования, то "жи
знедеятельность" русской культуры осуществляется по экзистенциальному типу,
непосредственному течению общественного бытия, без необходимых и достаточных
механизмов саморегуляции. Основным средством регуляции общественных процессов
являлись лишь Сила, Насилие и Страх, т.е. те
средства, которые в западноевропейском обществе рассматривались как проявление
варварства, дикости, как аномалия, и которые должны быть заблокированы. В то
время как западноевропейцы рассматривали свое
общество как царство свободы, то Московия им
виделась как царство насилия и несвободы.
Поскольку ядром, генератором ценностно-мыслительных ориентаций ментального
пространства является ФТС, то, на наш в
згляд, в сравнительном
культурологическом анализе основополагающее значение должно иметь
сопоставление ФТС исследуемых культур.
Примечательно, что силовая сторона "русского Духа" в значительной степени выпала
из поля зрения русской философии, не получила
теоретического осмысления. Атмосфера насилия и страха была настолько
естественна, что ее как воздух не замечали. Рефлексивная деятельность
сосредоточена преимущественно на его религиозной части, которая обычно
рассматривается как основание русского национального характера
. Однако, на наш взгляд, своеобразие ментального пространства русской
культуры определяется дуализмом, двуполюсностыо
его ФТС. Двуглавый орел на гербе Российского
государства является мистическим выражением именно этого основополагающего
обстоятельства. Русское православие составляет сокровенную часть "русской души"
, однако, не сводится к ней
.
В этой связи следует отметить любопытную антиномию современной культуры США, в
большой степени порожденную и “раскручиваему
ю” Голливудом: с одной стороны
, киноиндустрией систематически навязывается, смакуется, внедряется в
глубины подсознательного Сила, Дух насилия, с
другой,¾ одним из столпов американского общества выступает незыблемая
сила Закона, которая призвана неотвратимо
преследовать и наказывать всякие формы проявления насилия. В ментальном
пространстве культуры США возникает странная,
"мазохистская" ситуа
ция, когда проводится идеологически немотивированн
ый, с точки зрения целесообразности неоправданный и рискованный эксперимент
проверки на прочность ментального пространства
кудьтуры: через эскалацию насилия на экране, в литературе и др.
осуществляется комплексный процесс "внутреннего
Духа Силы, выходящего в реальную жизнь, а
затем его сдерживание, пресл
едование системой, право
вых институтов. Остается подождать, чем этот
эксперимент закончится.
Таким образом, русская культура допетровского
периода представляет не Запад. Вместе с тем, ее
трудно отнести и к Востоку. Понятие "Востока" остается еще весьма
неопределенным в современной культурологии. С точки зрения тематического
анализа Восток складываются из двух существенно ра
зличных ценностно-мыслительных образований.
Локомотивом одной составляющей являлись индийская
и китайская культуры. т.е. учитывая своеобра
зие культур востояной и юго-восточной Азии,
можно утверждать, что источником их ФТС,
ментальных пространств в большей или меньшей степени
являлись культуры Китая и Индии. Переход
стран восточной и юго-восточной Азии от варварского мифологического,
натуралистического состояния к цивили
зации так или иначе происходил под влиянием великих культур Древней Индии и
Китая посредством ассимиляции их культурных завоеваний. Это касается также и
Японии. Генератором другой составляющей ФТС
метакультурного образования "Восток" является
ислам. Сравнивая ментальные образования Запада и Востока обычно справедливо
отмечают слабое развитие индивидуализма в последнем,
на языке тематического анализа ¾ блокирование развития субпространства
архетипа хомоцентризма. Это обстоятельство
объединяет русскую культуру с Востоком. Однако, в отличие от русской культуры
рефлексивная природа индийской и китайской культур была изначально направлена
на преодоление субъективности, фундамен
тальность которой была осознана и теоретичес
ки осмыслена эначительно раньше, чем в з
ападноевропейской культуре. Религиозная практика в индуизме, будди
. направлена на преодоление феномена сознания, субъек
тивизма восприятия и т.д. Близкая к русской т
атарская культура, неиспытавшая цивилизаторского
воздействия китайской и индийской культур, является варварской, примитивной
формой культур Востока. Поэтому, на наш в
згляд, представление о евразийской природе
русской культуры допетровской Руси как синтезе Запада и Востока не имеет
достаточных оснований. Можно говорить лишь об ассимиляции побочных, примитивных
форм, невыражающих высшие завоевания Духа Запада и Востока. Евразийская идея в
русской культуре есть миф. Даже самый общий
сравнительный тематический анализ
показывает не только существенные отличия ФТС,
большой степени несовместимость. "Евразийский" миф носит
идеологически-компенсаторный характер.
Одним из наиболее существенных отличий западноевропейского образа жизни от
русского является концентрация внимания и усилий на
индивидуалистических ценностно-мыслительных
ориентациях. Все ментальное пространство западно-европейской культуры строится
, как на основании, на "индивидуальном жизненом
напротив, основные жизненные ориентации сводятся к
надличностным целям ("царь", "Россия", "русская
культура", "СССР", "КПСС", "мировая революция", "социализм", "коммунизм",
"демократическая Россия" и т.д.)
. Заботы и цели индивидуальной жизни отходят
как бы на второй план, приобретают второстепенный характер.
Жизнь откладывается как бы на "потом". Русские люди всегда пребывают в
ожидании, ждут лучшей, нормальной жизни. Но это
ожидание растягивается на целую жизнь сменяющих друг друга поколений.
Неудовлетворенность личной жизнью компенсируется
надличностными темами-целями, которые, сменяя
друг друга, на протяжении столетия образуют цепь
целей-мифов.
Основанием "евразийского" мифа в конечном итоге
является принцип территориальности, территория
России, раскинувшаяся на двух континентах. Как
обычно, в рассуждениях о русской культуре имеет место игра неопре
деленностей ¾ неразличение
, смешение объемов, значений понятий "русская"
и "российская" культура. Как правило, понятие "русской культуры" как культуры
русского народа отождествляется с понятием "российская культура", народов
, населяющий Российское государство,
рассматриваемое как единое ментальное цело.
Однако, фактически, говоря о русской литературе, музыке
, живописи и т.д. имеется в виду русская
культура в узком смысле слова как выражение духа лишь русского народа
. На наш взгляд, главная неточность в подобного рода размышлениях
заключается в смешении ментальных образований
"русская культура" и российская культура", существенно ра
зличных по своей природе. Предметом настоящего исследования было
формирование ФТС, определяющей ментальное
пространство русской культуры, как культуры
русского народа, русского этноса. "Российская
культура" представляет собой метакультурное
образование, возникшее по мере становления и
расширения Российской империи, которое имеет существенно иную
ценностно-тематическую структуру. В ее пространстве русс
кая культура выступает в качестве субпространственной конфигурации.
Пространство российской культуры ¾ это конгломерат неоднородных
субпространств культур народов России.
Обычно под руссификацией пон
имают процесс нивелировки, пр
иведения к одному основанию, к господствующей русской культуре как наиболее
примитивной форме интеграции посредством распространения
ценностно-мыслительных ориентаций русской культуры как ба
зисных, сопровождающегося разрушением ментальных структур
, в том числе и ФТС, субпространств культур
других народов. Поэтому для российской культуры как конгломерата
, аморфного, неоднородного сосуществования
субкультур есть какие-то основания для оправдания "евразийского" мифа. Однако
руссификация татарской, бурятской и др. культур
не есть синтез Запада и Востока. ФТС, тематическое
пространство русской культуры XIX ¾ XX столетий весьма существенно
отличается от западноевропейского.
Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Августин. Творения. В 4 т. - С.-Пб., К., 1998.
2. Августин. Исповедь. - М., 1991.
3. Аврелий М. Размышления. - С.-Пб., 1993.
4. Аммиан Марцеллин. Римская история. - С.-Пб., 199&.
5. Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь. - С.-Пб., 1914.
6. Античные гимны /Под ред. А.А.Тахо-Годи.- М., 1988.
7. Аполлодор. Мифологическая библиотека. - М., 1993.
8. Аристотель. Сочинения. В 4 т. - М., 1976.
9. Аристофан. Комедии. В 2 т. - М., 1983.
10. Бахтин М.M. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. -
М.,
1975.
11. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.- М., 1986.
12. Вахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса.- М., 1990.
13. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах.- М., 1975.
14. Бернарт де Вентадорн. Песни.- М.. 1979.
15. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры.- С.-Пб., 1995.
16. Блок М. Апология истории или ремесло историка.- М.. 1986.
17. Бокаччо Дж. Декамерон.- М., 1970.
18. Бокаччо Дж. Малые произведения. Сборник.- Л., 1975.
19. Боэций. "Утешение Философией" и другие трактаты.- М., 1990.
20. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения.- М.. 1996.
21. Былины. Т.I. (Б-кa русского фольклора).- M.. 1988.
22. Бэкон Ф. История правления короля Генриха УII.- М., 1990.
23. Валишевский К. Иван Грозный.- М., 1989.
24. Вальтер фон дер Фогельвейде. Стихотворения.- М., 1985.
25. Вебер М. Избранные произведвения.- М., 1990.
26. Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
27. Вергилий. Собрание сочинений.- С.-Пб., 1994.
28. Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции.- М.. 1997.
29. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.І. - М., 1994.
30. Гадамер Х.-Г. Истина и метод.- М., 1988.
31. Гегель Г.В.Ф. Лекции по Философии истории.- С.-Пб.. 1993.
32. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. В 3 кн.- С.-Пб.,1993.
33. Гельмгольд. Славянская хроника.- М., 1963.
34. Герберштейн С. Записки о Московии.- М., 1988.
35. Геродот. История.- М.. 1999.
36. Гомер. Илиада.- М., 1986.
37. Гомер. Одиссея.- М., 1984.
38. Гораций. Собрание сочинений.- С. - Пб., 1993.
39. Горсей Дж. Записки о России ХУI - начало ХУII в.- М., 1990.
40. Грамоты Великого Новгорода и Пскова.- М.-Л., 1949.
41. Грейвс P. Мифы Древней Греции.- М., 1992.
42. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение.- Л., 1990.
43. Гумбольт В. фон. Избранные труды по языкознанию.- М., 1984.
44. Гуревич А.Я. Походы викингов.- М., 1966.
45. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.- М., 1984.
46. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой культуры.- М., 1981.
47. Гуревич А.Я. Культура и обшество средневековой Европы глазами
современников.- М., 1989.
48. Гуссерль Э. Философия как строгая наука.- Новочеркасск, 1994.
49. Домашний быт русских царей в ХУI - ХУII вв.: По Забелину, Клю-
чевскому, Карновичу и др. /Сост. М.Г.В
олховский.- М., 1992.
50. Евреинов Н. История телесных наказаний в России.- Харьков, 1994.
51. Жизнеописания трубадуров.- М., 1993.
52. Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах.- М.,
1977.
53. Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России ХУ в.- М., 1991.
54. Златоструй. Древняя Русь. Х - XIII вв.- М., 1990.
55. Зомбарт В. Буржуа.- М., 1994
56. "Изборник" (Сб. произведений лит-ры Древней Руси).- М., 1969.
57. Кант И. Критика чистого разума.- С.-Пб., 1993.
58. Карсавин Л.П. Культура средних веков.- К., 1995.
59. Карташев А. Собрание сочинений. В 2 т. Т.I.
Очерки по истории русской церкви.- М., 1992.
60. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке.- М., 1998.
61. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу.- М., 1972.
62. Ключевский В.0. Сочинения. В 9 т. Курс русской истории.- М., 1987-90.
63. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах.
Кн.I.- М., 1993.
64. Ключевский В.0. Сказания иностранцев о Московском государстве.- М., 1991.
65. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография.- М.. 1990.
66. Комнина Анна. Алексиада.- М., 1965.
67. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография.- М.,1990.
68. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М., 1993.
69. Ксенофонт. Анабасис.- М., 1994.
70. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе.- М., 1993.
71. Кьеркегор С. Страх и трепет.- М., 1993.
72. Культура древнего Рима. В 2 т. – М., 1985.
73. Літопис руский.- К., 1989.
74. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.- М.. 1992.
75. Лев Диакон. История.- М.. 1988.
76. Ливий Т. История Рима от освоения города. В 3 т.- М., 1989-94.
77. Ловмянский Х. Русь и норманы.- М., 1985.
78. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Сористы. Сократ. Платон.- М.,
1969.
79. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая класика.- М., 1974.
80. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя
классика.- М., 1975.
81. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм.- М., 1980.
82. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века.- М., 1988.
83. Лосский Н.О. Бог и мировое зло.- М., 1985.
84. Луиза Лабе. Сочинения.- М., 1988.
85. Лукиан. Избранная проза.- М., 1991.
86. Маргарита Наваррская. Гептамерон: Любовные истории.- Мн., 1992.
87. Макиавелли Н. Сочинения.- С.-Пб., 1998.
88. Мелетинский Е.М. Средневековый роман.- М., 1983.
89. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа.- М.,
1986.
90. Мешков В.М. Архетипическое пространство русской культуры в исто-
рическом развити. Ч.I. Архетипы культуры и проблема типологии культур.-
Деп. В ИНИОН АН СССР. №44363 от 16.04.91.
91. Мешков В.М. Архетипическое пространство русской культуры в истори
ческом развитии. Ч.2. Архетипическое пространство древнерусской культуры
периода Киевской Руси и феодальной раздробленности.- Деп. в ИНИОН АН
СССР №44551 от 14.05.91.
92. Мехаил Пселл. Хронография.- М., 1978.
93. Народная проза. Т.12. (Б-ка русского фольклора).- М., 1992.
94. Ницше Ф. Сочинения. В 2 т.- М., 1990.
95. Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей.- М., 1994.
96. Ницше Ф. Странник и его тень. - М., 1994.
97. Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху.- М., 1994.
98. Новгородская первая летопись старшего и малого изводов /Ред.
А.Н.Насонова.- М.-Л., 1950.
99. О начале войн и смут в Московии /Исаак Масса, Петр Петрей.- М., 1997.
100. Овидий. Любовные элегии; Метаморфозы; Скорбные элегии.
М., 1983.
101. Овидий. Скорбные эелегии. Письма с Понта.- М., 1982.
102. Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы.-
М., 1996.
103. Очерки истории культуры славян. Вып.I /Ред. В.К.Волков и др.- М.,1996.
104. Памятники литературы Древней Руси: Начало русской литературы XI –
начало XII века /Общ.ред. Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева/.- М.,1978.
105. Памятники литературы Древней Руси: XII век /0бщ. ред. Л.А.Дмитриева и
Д.С.Лихачева/.- М., 1980.
106. Памятники литературы Древней Руси: XIII век /0бщ. ред. Л.А.Дмитриева
и Д.С.Лихачева/.- М., 1981.
107. Памятники литературы Древней Руси: ХIV - середина ХV века /Общ. ред.
Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева/.- М., 1981.
108. Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина ХV века /Общ. ред.
Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева/.- М., 1982.
109. Памятники литературы Древней Руси: Конец ХV века - первая половина
ХVI века /Общ. ред. Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева/.- М., 1984.
110. Памятники литературы Древней Руси: Середины ХVI век /Общ. ред.
Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева.- М.. 1985.
111. Памятники литературы Древней Руси: ХVII век /Общ. ред.
Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева.- М.,1988.
112. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским.- Л.. 1979.
113. Петрарка Ф. Канцоньере. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру.
Книга писем о делах повседневных. Старческие письма.-М., 1996.
114. Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты.- М., 1980.
115. Пиcapeв H. Домашний быт русских патриархов.- М., 1991
116. Плавт. Комедии. В 2 т.- М., 1987.
117. Платон. Сочинения. В 3 т.- М., 1968.
118. Платон. Диалоги.- М., 1986.
119. Плутарх. Избранные жизнеописания. В 2 т.- М., 1986.
120. Плутарх. Застольные беседы.- Л., 1990.
121. Поппер К. Логика и рост научного знания.- М., 1983.
122. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т.- М., 1992.
123. Потебня А.А. Слово и миф.- М., 1989.
124. Похищение быка из Куальгне.- М., 1985.
125. Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в.- М., 1983.
126. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная
история.- М., 1989.
127. Прокопий Кесарийский. Война с готами.- М., 1950.
128. Псковские летописи. Выпуск 2 /Под ред. А.Н.Насонова.- М., 1955.
129. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право.- М. ,1999.
130. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.- М., 1991.
131. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших
дней. В 4т.- С.- Пб., 1994-97.
132. Робер де Клари. Завоевание Константинополя.- М., 1986.
133. Российское законодательство Х - XX веков. T.I. Законодательство
Древней Руси.- М., 1984.
134. Российское законодательство Х - XX веков. Т.2. Законодательство периода
образования и укрепления Русского централизованного государства.- М.,
1985.
135. Россия ХV - ХVII вв. глазами иностранцев.- Л.. 1986.
136. Руа Ж.Л. История рыцарства. - М., 1996.
137. Pyccкая народная поэзия. Эпическая поэзия.- Л., 1984.
138. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия.-
М., 1980.
139. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян.- М., 1981.
140. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв.-
М., 1982.
141. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси.- М., 1988.
142. Сансон Г. Записки палача или Политические и исторические тайны
Франции. В 2 кн.- Луганск, 1993.
143. Светоний Г. Жизнь двенадцати цезарей.- М., 1991.
144. Святитель Афанасий Великий. Твopeния. В 4 т.- М., 1994.
145. Святой Антоний Великий. Духовные наставления.- М., 1998.
146. Святой Василий Великий. Духовные наставления.- М., 1998.
147. Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры.-
М., 1998.
148. Сервантес. Собрание сочинений. В 5 т.- М., 1961.
149. Снорри Стурлусон. Круг земной.- М., 1995.
150. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 18 кн.-
М., 1988.
151. Софокл. Трагедии.- М., 1988.
152. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (ХУ век).-
М., 1985.
153. Средневековый роман и повесть.- М., 1974.
154. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка.Т.I.Ч.I.- М., 1989.
155. Сталь Жермена Де. О литературе, рассмотренной в связи с общественными
устройствами.- М., 1989.
156. Таллеман де Рео. Занимательные истории.- Л., 1974.
157. Тацит К. Сочинения. В 2 т.- Л., 1969.
158. Теренций. Комедии.- М., 1988.
159. Тертуллиан. Избранные сочинения.- М., 1994.
160. Тиллих П. Избранное: Теология культуры.- М., 1995.
161. Тойнби А. Постижение истории.- М., 1991.
162. Тoквиль А. де Демократия в Америке.- М., 1992.
163. Трельч Э. Историзм и его проблемы.- М., 1994.
164. Тулмин Ст. Человеческое познание.- М., 1984.
165. Филипп де Коммин. Мемуары.- М., 1986.
166. Флетчер Дж. О государстве Русском.- В кн.: Накануне смуты.- М., 1990.
167. Фрагменты ранних греческих философов. Ч.I. От эпических теокос-
могоний до возникновения атомистики.- М., 1989.
168. Франк С.Л. Духовные основы общества.- М., 1992.
169. Фромм Э. Душа человека.- М., 1992.
170. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Сборник.- М., 1991.
171. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет.- М., 1993.
172. Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. - М., 1993.
173. Хейзинга И. Осень средневековья. - М., 1988.
174. Хейзинга И.Homo ludens. В тени завтрашнего дня. - М., 1992.
175. Хрестоматия по истории средних веков /Под ред. Н.П.Грацианского
176. Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда
Нибура. - М., 1996.
177. Хюбнер К. Истина мифа. - М., 1996.
178. Цицерон. Философские трактаты. - М., 1985.
179. Цицерон. Эстетика: Трактаты. Речи. Письма. - М., 1994.
180. Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземно-
морья. - М., 1999.
181. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. - М., 1983.
182. Шопенгауэр А. Собрание сочинений. В 5 т. - М., 1992.
183. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 т.-,
М., 1993.
184. Эсхил, Трагедии. - М., 1971.
185. Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1991.
186. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.
187. Ясперс К. Ницше и христианство. - М., 1994.
188. Феофилакт Симокатта. История.- М., 1957.
189. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культури. В 3 т.,- М., 1994.